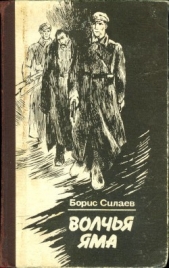После Шлиссельбурга

После Шлиссельбурга читать книгу онлайн
Третий том воспоминаний Веры Николаевны Фигнер
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Глава тридцать третья
П. А. Кропоткин
В Лондоне я встретилась в первый раз с Петром Алексеевичем Кропоткиным.
Ему было уже около 70 лет, но его пропорционально сложенная фигура была тонкой, как в молодости, и я видела, как легко по нескольку раз он взбегал по лестнице в верхний этаж за той или другой вещью. Голубые глаза его смотрели ясно и ласково, а седая борода веером спускалась на грудь.
П. А. был в то время в апогее своей славы. Признанный глава западноевропейского анархизма, он пользовался уважением представителей всех классов и был в личных и письменных сношениях с литераторами, учеными, общественными и политическими деятелями Великобритании и других стран. Его произведения «Записки революционера», «История Великой французской революции» обошли весь свет, от Америки Северной и Южной на Западе, до Японии и, Китая на Востоке, и были переведены на языки всех цивилизованных наций. Его книги «Поля, фабрики и мастерские» и «Завоевание хлеба» возбудили особенное внимание в Англии, а для западноевропейских рабочих стали чем-то вроде евангелия: цифрами и примерами П. А. доказывал, что при современном состоянии науки и техники вполне осуществимо общее благосостояние — этот первый шаг на пути к социальному идеалу — и достижение его зависит только от самодеятельности и напряжения воли трудящихся, к чему он и призывал сильным, горячим словом.
Слава не дала Кропоткину богатства; в другом месте я где-то сказала, что он рассыпал золото своей мысли, но золото не капало в его карман. В то время, как я встретилась с ним и его семьей, материальное положение их было, пожалуй, удовлетворительно, но и только: никакой роскоши они не могли себе позволить. А было время — первые годы после переезда в Англию из Швейцарии, которая изгнала его, — они прямо нуждались. Софья Григорьевна рассказывала мне, что она с трудом могла раз в неделю купить кусок мяса для мужа. Надо было работать, неустанно работать, чтоб жить литературным трудом — единственным источником существования в течение всей жизни П. А.; работать и прокладывать себе дорогу на чужбине, без связей и знакомств. П. А. сделался сотрудником научного журнала «Nineteenth Century», и его многолетние работы в нем утвердили его репутацию ученого.
Снисходительный и приветливый к людям, П. А. оказывал гостеприимство всем, кто хотел его видеть. Посещая его, я находила всегда смешанное общество, и в нем не могли развернуться блестящие качества П. А., как собеседника, веселого, остроумного и вместе с тем многосодержательного. Все встречи, которые я имела с ним, не прибавили никаких новых черт к образу, который выявился при чтении его несравненных произведений.
Однажды он удивил меня. Случилось, Фанни Степняк-Кравчинская в разговоре высказала мнение, что неудачи войны с Японией были полезны для России.
— Национальное унижение никогда ни для одного народа не было полезно, — повышая голос, резко возразил П. А.
Разгорелся спор; приводились примеры: Крымская война… война Франции с пруссаками… П. А. покраснел от волнения и говорил с такой необычайной горячностью, что я думала только о том, чтоб разговор кончился.
Чем было объяснить его страстность в этом вопросе? Не пробивалась ли в нем жилка военного, давно погребенная совершенно иными идейными наслоениями?..
Иногда П. А. добродушно смеялся над комическими эпизодами из периода «хождения в народ» и шутливо рассказывал, напр., о том, что было, по его словам, с Кравчинским и Рогачевым, когда, в виде пильщиков, они ходили по деревням.
Идя в соответствующей одежде по проселочной дороге со своими пилами, они нагнали мужика, тащившегося на своей лошаденке. Они тотчас завязали разговор; речь по обыкновению пошла о тягостях крестьянской жизни, о каторжном труде, податях, а затем о притеснениях станового и исправника. Мужик сначала поддакивал; потом, когда речь пошла об исправнике, стал похлестывать свою лошаденку. Прибавили шагу и пильщики, а в речи подбавили жару. Мужик стал энергичнее понукать лошадь — быстрее зашагали пешеходы, и все горячее и революционнее лилась речь. Когда же они коснулись царя, мужик стал удирать изо всех сил, но Рогачев и Кравчинский, задыхаясь, пустились бежать ему вслед и все более дерзких слов по адресу царя посылали вдогонку удиравшему мужичку.
И П. А. добродушно хохотал над своими приятелями, рьяными пропагандистами, и уверял, что слышал эту историю от самих действующих лиц. Смеялись и мы, и долго милая улыбка освещала лицо рассказчика.
Страдая хроническим бронхитом, П. А. тогда уже неохотно выступал на больших митингах, да их и не было в те две недели, которые я провела в Лондоне. Кажется, в эту же поездку я была в кружке имени Герцена, основанном П. А., Волховским и некоторыми другими. Кружок устроил вечер: выступал Волховский, с большим подъемом пересказавший рассказ Тургенева «Певцы». Дочь П. А., Александра Петровна, с одним молодым человеком инсценировала отрывок из «Дворянского гнезда» — сцену Лизы и Лаврецкого в саду. А П. А. поделился своими воспоминаниями о Тургеневе, но подробности его рассказа изгладились из моей памяти. Вечер прошел удачно; присутствовали исключительно русские, так как и кружок состоял только из них и был невелик.
Ко мне П. А. относился с бережной деликатностью: он никогда не расспрашивал меня о Шлиссельбурге — он знал, что мне было бы тяжело делиться еще не остывшими острыми воспоминаниями.
Наши отношения не порвались и после моего отъезда, они освежались позднее и новыми встречами. Была между нами и переписка: у меня сохранилось около 25 писем разного времени.
Мою первую книгу, «Шлиссельбургские узники», изданную в 1921 г., он встретил с восторгом и в письме, после получения ее, не поскупился на похвалы.
Малочисленность интеллигенции в России общеизвестна исстари. Стеснение царским правительством народного образования, преследование прессы, писателей и студенчества, с одной стороны, гнали интеллигентов в ссылку в Сибирь, с другой — принуждали эмигрировать и лишали Россию иногда крупных сил. Одною из таких потерь являлся П. А. Кропоткин.
Примкнувший к социалистическому движению в 1872 г., Кропоткин попадает в тюрьму по обвинению в революционной пропаганде. Его друзья и товарищи по кружку Чайковского устраивают в 1876 г. его побег и переправляют за границу. С той поры в течение 42 лет он остается вне России, он, уже начавший блестящую ученую деятельность по исследованию Сибири и ледников Финляндии. Для русской науки он был потерян, и в то время как в Европе он завоевывает почетное место в ученом мире, в России его имя во весь царский период нигде не упоминается. Он, занявший крупное место в рядах революции, как член кружка чайковцев в первый период социалистического народничества, потерян и для русского революционного движения.
Оторванный от России, вырванный из исторических условий русской жизни своего времени, Петр Алексеевич засиял всем блеском своих дарований в Западной Европе. В области того, что составляет общественное мнение, он равнялся Герцену, а в области влияния на рабочие массы — Бакунину. Герцен имел обширные связи и находился в тесных сношениях с цветом западноевропейской интеллигенции, радикальной и революционной, но не имел значения в рабочем классе. Апостол разрушения — Бакунин — своими идеями волновал ряды Интернационала всех романских стран, но не имел никакого веса в европейском общественном мнении, — разве лишь вес отрицательный. Кропоткин же сочетал в себе те элементы ума, чувства и личного характера, которые вызывали глубокое почтение в верхах общества, во всех культурных слоях его, и вместе с тем внушал энтузиазм в рабочих массах.
С отъездом за границу Петр Алексеевич, как революционер-писатель, писал не для России, но для всего человечества. Его умственный горизонт отрешился от национальных пределов и расширился до великих задач освобождения всего человеческого рода. Его книги «Хлеб и воля», «Поля, фабрики и мастерские» написаны для всех народов, к какой бы национальности они ни принадлежали. В этом смысле он — мировой писатель, мировой — не только по распространенности его произведений, но и по широте захвата его идей.