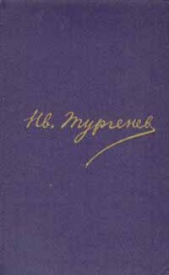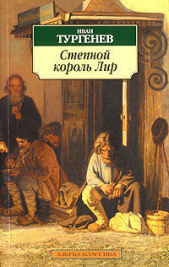Записки гадкого утёнка

Записки гадкого утёнка читать книгу онлайн
Известный в России, и далеко за ее пределами эссеист, философ и филолог выступает на этот раз с мемуарной прозой. Григорий Померанц пережил и Сталинград, и лагеря, и диссидентство, но книга интересна не только и не столько событиями, сколько рожденными ими мыслями и чувствами. Во взлетах и падениях складывается личность человека, и читатель вступает в диалог с одним из интереснейших современников и проходит вместе с автором путь духовного труда как единственную возможность преображения.
Сердечная благодарность от редакции сайта levi.ru и от Григория Соломоновича Померанца за труды над электронной версией книги — Кате Кривошей и Сергею Левченко, нашим сотрудникам и друзьям.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В ассимиляции есть свои уродства, свои вывихи. Но я не думаю, что ассимиляция по сути своей — вывих. Во всяком случае это не только болезнь. Или, другими словами, в этом болезненном процессе есть нечто плодотворное. Как плодотворна была для культуры Австро-Венгрия. Сперва меня удивило у Ричарда Олдингтона, что ему жаль лоскутной монархии. А потом подумал, подумал — и понял. Да, лоскутная, и все неустойчиво, и постоянные трения между землями. Ахиллес, у которого пятка всюду. Но иногда все-таки Ахиллес. Иногда все-таки целое, неожиданное по своему богатству, как австрийская музыка, возникшая на перекрестке немецкого и итальянского, венгерского и славянского. Без этого беспокойного перекрестка не было бы Моцарта. А без гибрида эллинского с иудейским не было бы христианства. Трудное, неловкое сожительство иногда плодотворно. Я сам нечто вроде Австро-Венгрии. Я в Москве чувствую себя евреем, в Грузии, где русских не любят, — русским, и, наверное, за границей чувствовал бы себя как раз тем, который здесь, в этом месте — чужой. Это не очень удобно, но я не хочу распада своего еврейско-русского внутреннего царства. От самого себя никуда не денешься. Я знаю по опыту, что народ меня своим не считает, но не могу вынуть из себя русскую культуру и отделить от этой культуры еврейский привкус. Куда бы я ни поехал, все останется во мне, так же, как и я — частицей истории русской культуры и истории еврейства.
Так я думаю сейчас, но сорок лет тому назад рассуждал иначе — в терминах культуры, социалистической по содержанию и национальной только по форме. Правда, вопрос, до какой степени у нас построен социализм, оставался для меня открытым; но я не сомневался, что когда-нибудь он будет построен. От каждого по способностям, каждому по труду — разве это не справедливо? И разве справедливость не должна победить? Наши военные победы казались мне доказательством, что основной маршрут был верен, и вместе с угнетением исчезнет гнев масс, который не раз в истории принимал ложную форму и обрушивался на чужака, на козла отпущения, оставляя в покое действительных злодеев. У нас никому не нужно отвлекать от себя гнев угнетенных (думал я). Значит, все дело в росте марксистской интернациональной сознательности. Сознание вчерашних мужиков, сегодняшних офицеров и генералов, еще отстает, еще сохраняет пережитки вчерашнего дня. Ну и пусть. Править должны те, кто возвышается над национальными предрассудками, уверял я себя, ворочаясь на койке. Старые коммунисты это умели. Вот и у нас в дивизии замполит артиллерийского полка старый коммунист Карякин успешно боролся с антисемитизмом. Когда мы стояли на Никопольском плацдарме, какой-то старший лейтенант сказал, что все, мол, идут на запад, только наша еврейская дивизия завязла. Глупо — потому что завязла вся 5-я ударная армия, и завязла потому, что резервы шли на правый берег Днепра, а Никопольскую группировку немцев оставили сидеть на левом и дожидаться окружения (под угрозой его она в конце концов бежала прямиком до Румынии.) Карякин собрал офицеров и сумел убедить их. Но это капля в море. Нужно еще много работы, и пока она не проделана, власть должна оставаться в руках марксистской партии…
Я не знал, что идея антиеврейской революции была инспирирована самим Сталиным (через Щербакова) в декабре 1941 года. Я не понимал, что национальные чувства и национальные предрассудки живучее, чем социальные формы, и евреев били всегда: до Рождества Христова и после, при рабовладельческом строе, при феодализме, при капитализме — и при реальном социализме. Я горел своей идеей просвещенной и просвещающей диктатуры и написал в этом духе целый трактат, который непременно нужно было куда-нибудь послать, хоть на деревню дедушке. Подходящим адресатом показался Эренбург. Любопытно, дочитал ли он мою галиматью?
В мифе, который я наскоро сочинил, залепляя им сердечную рану, интеллигенция оказалась марксистской и правящей. Я закрыл глаза на то, что хорошо знал. Что марксист Пинский не хотел в эту партию. Что «всех умных людей пересажали, одни дураки остались», — как я сам подвел итог в 1939 году. Я отнес все это к перегибам, вызванным страхом перед фашизмом, страхом, который отпадет после победы. Тогда восстановлена будет партийная демократия, а за ней и всякая демократия, по мере роста марксистской интернациональной сознательности. Понимая марксизм как реальный гуманизм и логическую основу коммунизма. То есть ассоциации, в которой свободное развитие всех будет условием свободного развития каждого. Шигалевского развития идеи свободы можно избежать. То, что шигалевщина уже стала действительностью, я не хотел знать, я вытеснял неудобные факты из своей мысли. Мне нужен был миф. У меня хватало мужества рисковать жизнью, но не было мужества увидеть, к чему мы пришли.
Эренбург не ответил на мое письмо, но ответила судьба. Меня вызвали в политотдел армии. Там, в отделе кадров, сидел ифлиец, капитан Коркешкин. Он смутно помнил мою фамилию — кажется, по скандалу с Достоевским. Но сейчас этот скандал был далеко в прошлом. Нужен был литсотрудник в 61-ю дивизию. Мой предшественник, капитан Авербах, взорвался на мине. И Коркешкин, найдя знакомую фамилию в списках легкораненых, — стал уговаривать — пойти в негвардейскую дивизию, редакция интеллигентская, все офицеры с университетским образованием.
Уходя раненым из батальона, я твердо собирался вернуться в него и даже в госпиталь не хотел ехать, думал отсидеться в медсанбате. Но теперь — после разъяснительной работы, проделанной командиром противотанкового дивизиона, я сразу согласился.
Когда у человека есть миф, жизнь всегда дает факты, подтверждающие этот миф. В редакции 61-й оказался микроклимат, как будто специально для меня придуманный. Популяция ее состояла из майора Кронрода, капитана Вачнадзе и капитана Шестопала (еврей, грузин и украинец); вскоре Вачнадзе перевели редактором в другую дивизию, а на его место — майора Череваня (с понижением — за пьянство). Черевань — добродушный флегматик — компании не портил. Не было ничего подобного грызне Черемисина с Абрамичевым. Друг с другом — по имени-отчеству, без чинов. Впрочем, с Матвеем Михайловичем Шестопалом мы скоро перешли на ты, и я звал его просто Женей (так он представлялся девушкам, находя свое настоящее имя слишком селянским). Иногда он читал мне украинские стихи, которые сочинял от имени жены Галины Прохаченко (оставшейся в оккупации) и опубликовал как народные песни неволи. Или рассказывал байки, собранные в селах. Например, почему Сталина пишут в чоботах, а Ленина в черевичках? Потому что Ленин увидит лужу — обойдет, увидит куст — обойдет, а Сталин — все навпростэць. За такие сказочки вполне можно было схлопотать срок, но мы друг друга не боялись.
На передовую редакция ездила в полном составе. У Черемисина не было своей автомашины, типографию каждый раз грузили и разгружали. У Кронрода — два грузовика. На одном смонтирована была типография, на другом —» шевроле»— мы лихо проносились под огнем, ставили машину за ферму и шли смотреть, как идет бой. Яков Абрамович иногда отпускал при этом ученые замечания:
— Мы воюем как промышленная держава (то есть жиденькая цепочка стрелков идет вслед за мощным огневым валом).
— Каким нежным тихим движением создается человек и сколько тратится взрывчатки и металла, чтобы убить его!
К Черемисину никто никогда не заходил (кому он нужен?). У Кронрода был офицерский клуб. В редакции всегда толкались политотдельцы и штабные. Бывал и начальник политотдела Сурен Акопович Товмасян. Он был очень неглуп, знал себе цену, с начальством упрям, а с нами держался по-домашнему: «Ну, что вы, образованные люди, об этом думаете?» — спрашивал Сурен Акопович, и начинались разговоры, кто кого перехитрит: Рузвельт, Черчилль или Сталин. Выходило, что, конечно, Сталин. Но каким-то образом этот хитрый Сталин непременно будет развивать демократию. Так нам хотелось. Каков поп, таков и приход. Заместитель Товмасяна, майор Токмаков, тоже любил посидеть у нас, полиберальничать. Словом, полная симфония между интеллигенцией и партийным руководством.