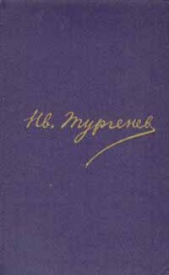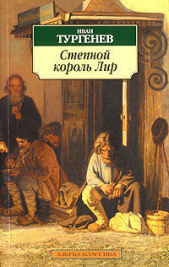Записки гадкого утёнка

Записки гадкого утёнка читать книгу онлайн
Известный в России, и далеко за ее пределами эссеист, философ и филолог выступает на этот раз с мемуарной прозой. Григорий Померанц пережил и Сталинград, и лагеря, и диссидентство, но книга интересна не только и не столько событиями, сколько рожденными ими мыслями и чувствами. Во взлетах и падениях складывается личность человека, и читатель вступает в диалог с одним из интереснейших современников и проходит вместе с автором путь духовного труда как единственную возможность преображения.
Сердечная благодарность от редакции сайта levi.ru и от Григория Соломоновича Померанца за труды над электронной версией книги — Кате Кривошей и Сергею Левченко, нашим сотрудникам и друзьям.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я эту статистику знал. Если сравнить (по двум дивизиям, в которых побывал) потери редакционных работников и комсоргов стрелковых батальонов, то уровень риска возрастает в 30–40 раз. Но где наша не пропадала! Авось обойдусь ранением (два шанса из трех). И вернусь в Москву с эполетами.
Зачем они мне были нужны, эти эполеты? Но в голове моей сидела русская литература, и слова «отечественная война» совершенно сбивали с толку. Было постыдно вернуться с отечественной войны без эполет. Ну вот и получил их. Кончил войну гвардии лейтенантом с двумя ранениями и двумя орденами — все честь честью. Увы!.. Оперение селезня недолго сидело на мне. Гадкий утенок снова стал гадким — и еще гаже, чем прежде.
Если бы не приказ маршала Рокоссовского о производстве в младшие лейтенанты, я демобилизовался бы в 45-м, поступил в аспирантуру… А дальше? Дальше постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», борьба против космополитизма, арест Пинского… Самое позднее — меня бы посадили вместе с Пинским. Следствие было бы тяжелее. Я получил бы не пять, а десять лет. И вряд ли ждала бы меня должность нормировщика…
Судьба как погода. Февраль отпустит — март прижмет. Если жаркий май — жди холодного июня. И все дороги ведут в Рим: вытягивают наружу то, что в тебе заложено внутри. А для этого неудачи, может быть, важнее, лучше удач и побед. Неудачи во внешнем поворачивают внутрь. И этим (внешними неудачами) судьба меня не обидела.
Месяца через три связной привел ко мне Федю. Я сидел метрах в трех позади стрелков, рассыпанных по опушке, и занимался своей писаниной. Перестрелка шла вяло; не было оснований уходить из стрелковой роты, с которой шел на марше. Вежливость теперь требовала встать, приветствовать старшего по званию и, пожалуй, отвести его метров на двести, чтобы не смущать свистом пуль. Но я ничего этого делать не стал и, не вставая, предложил товарищу капитану сесть. Федя, как ни в чем не бывало, улыбнулся, сел. Я тоже улыбнулся и стал рассказывать про младшего сержанта Юрочкина, ефрейтора Ларионова и т. п. Тут несколько шальных пуль просвистали довольно близко. Моя спина была до некоторой степени укрыта стволом сосны, а Федя сидел лицом к противнику. Я поглядывал, как он будет вести себя, — выдержит ли хоть 15 минут.
— В нашем деле главное — вовремя смыться, — сказал Федя с обезоруживающей улыбкой, захлопнул (не дописав фразы) блокнот и смылся. Рыла вообще народ естественный. Не станет рыло рисковать из-за какого-то там достоинства офицера.
Лет через 20 случай столкнул меня с Черемисиным. Закончив войну победой, он двигал вперед передовую науку и писал диссертацию, кажется, о партийных организациях Сибири. А я служил в Фундаментальной библиотеке. Увидев знакомого около бесконечных картотек, способных смутить и более толкового исследователя, мой бывший начальник очень обрадовался и подошел ко мне. Я поздоровался, расспросил, что ему нужно, и объяснил, что где лежит. Внешне все было очень обыденно, но внутренне я был поражен и долго не переставал удивляться. Куда девалась моя ненависть?
Из-за него я переменил свою свободную и веселую работу на другую, с гораздо более жестокими правилами, с заведомой невозможностью выйти из переделки без повреждений. Из-за него стоял под дулом фердинанда, видел вспышку выстрела и упал, раненный (слава Богу, легко). Статистика не подкачала: бои начались 22 июня, осколок попал в меня 23 октября; ровно четыре месяца и один день. Могло кончиться иначе (один шанс из трех — смерть). Но прошло 20 лет, и от моей обиды и ненависти не осталось ничего. Я равнодушно-вежливо смотрел, как Черемисин угодливо выспрашивал то, что я обязан был сказать первому встречному (он всегда был угодлив, как червь, если от кого-то в чем-то зависел). У меня не осталось с ним никаких счетов. Мне ничего не нужно было от этого человека. Огромная радость встречи с Ирой, огромное горе от ее смерти, новая любовь, новая духовная жизнь — все это смыло следы обид, как ручей — горстку пепла, упавшую с папиросы.
Глава Восьмая
Цена победы
Никогда я не был таким своим. Я cлился с массами, как хотелось когда-то в 14–15 лет и перестало хотеться в 16. Я был свой в доску. Мы все были свои на передовой.
— Стой, кто идет?
— Свои.
И вдруг оказалось, что все это не так. Что все держалось только на личном знакомстве.
Впрочем, это все оказалось потом, а пока…
На площади польского городка стоит генерал-майор Кузнецов и принимает парад. Левина перевели в штаб армии. В конце войны его фамилия снова стала мелькать в приказах. Видимо, дали другую дивизию, негвардейскую, так же, как Крейзеру — негвардейскую армию.
Возле помоста оркестр. Трубач, с которым мы когда-то вместе были зачислены в трофейную команду, дует в свою трубу. Капельмейстер, уговоривший меня сочинить гимн 96-й гвардейской, помахивает палочкой.
Прошло четверть века, прежде чем я написал в эссе «Неуловимый образ»:
«Добро не воюет и не побеждает. Оно не наступает на грудь поверженного врага, а ложится на сражающиеся знамена, как свет, — то на одно, то на другое, то на оба. Оно может осветить победу, но ненадолго, и охотнее держится на стороне побежденных. А все, что воюет и побеждает, причастно злу. И с чем большей яростью дерется, тем больше погрязает во зле. И чем больше ненавидит зло, тем больше предается ему».
Я верю в победу добра под салюты из 220 орудий. И, старательно распрямляя сутулую спину, изо всех сил печатаю шаг в ячейке управления 3-го батальона 291 гв. с. п. Все идет отлично. Я и в батальоне остался вольной птицей. Ленивый старший лейтенант Скворцов, замполит, предоставил мне полную свободу рук. (Только один раз он не подписал подготовленной мной бумаги, когда лейтенант Сидоров представил к медали «За отвагу» сразу семь человек евреев, — беженцев из западных областей, — «советских граждан со вчерашнего дня». Второе представление на двух уцелевших он, впрочем, подписал.)
Мог бы руководить мной парторг, но он оказался сержантом из артиллерийских мастерских, примерно говоря — слесарем из Металлоремонта, и чувствовал себя очень неловко в навязанной ему роли. Когда начались бои, раздобыл большую лопату и первым делом копал ровик. Как только развернется командный пункт, копает. Скворцову копал ординарец, а я обходился вовсе без ровика. Одна из причин, по которой я решил уйти именно на офицерскую должность, была свобода от лопатки. Я легко хожу, у меня крепкие ноги, а руки слабые, и в солдатской жизни под Москвой труднее всего было копать. Возвращаться к этому я не хотел, предпочитал риск. Полежу на земле; потом уйду в минроту, а то и в стрелковую цепь загляну. Вернусь — какой-то ровик уже свободен: связист побежал по проводу, связной — с приказом… В бою несколько ровиков всегда пусты.
Бедный слесарь тащил лопату на плечах, как ружье, а мы старались не замечать ни лопаты, ни его лица с постоянным выражением испуга. И зачем только выдернули человека со своего места? Чинил бы себе подбитые минометы. В конце концов беднягу контузило. В мои дела, положенные по инструкции и добровольно на себя взятые, он ни разу не вмешивался.
В куче пустых статей попалась мне одна дельная фраза: хорошая политработа должна растворяться в частях, как сахар в чае, — без следа. И я все свободное время просто разговаривал с солдатами — по большей части мальчиками, ни разу не видавшими боя, рассказывал, как вести себя под огнем и вообще хорошо чувствовать себя на войне. Один раз даже показал в первом бою, как сохранить рассыпной строй, не сбиваться в кучки (а очень хочется; кажется, что так не страшно; но именно по кучкам бьют пулеметы и минометы). Впрочем, больше всего в моих разговорах было не военно-тактических знаний, а чувства. Если хотите, можно сравнить мою роль с ролью анестезиолога при операции. Я сам не резал, но старался уменьшить боль от движения скальпеля. Почти всем нам предстоит выйти из строя, но храбрый умирает один раз, трус тысячу раз. От нас самих зависит, как играть со смертью: весело, с верой в справедливость своего дела и в свою счастливую звезду.