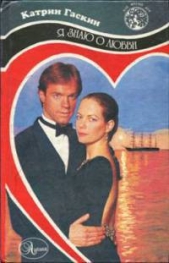Николай Гумилев
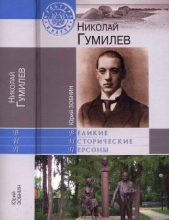
Николай Гумилев читать книгу онлайн
Долгое время его имя находилось под тотальным запретом. Даже за хранение его портрета можно было попасть в лагеря. Почему именно Гумилев занял уже через несколько лет после своей трагической гибели столь исключительное место в культурной жизни России? Что же там, в гумилевских стихах, есть такое, что прямо-таки сводит с ума поколение за поколением его читателей, заставляя одних каленым железом выжигать все, связанное с именем поэта, а других — с исповедальным энтузиазмом хранить его наследие, как хранят величайшее достояние, святыню? Может быть, секрет в том, что, по словам А. И. Покровского, «Гумилев был поэтом, сотворившим из своей мечты необыкновенную, словно сбывшийся сон, но совершенно подлинную жизнь. Он мечтал об экзотических странах — и жил в них; мечтал о немыслимо-ярких красках сказочной природы — и наслаждался ими воочию; он мечтал дышать ветром моря — и дышал им. Из своей жизни он, силой мечты и воли, сделал яркий, многокрасочный, полный движения, сверкания и блеска поистине волшебный праздник"…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако для декадентской творческой интеллигенции начала XX века эта тютчевская «ортодоксальность» в определении целей душевного стремления лирического героя была своего рода «пережитком прошлого». Символисты-богоискатели предпочитали оперировать «общими» понятиями «непознаваемого», «высокого», даже — «божественного», никак, однако, не связанными какой-либо конфессиональной догматикой:
В стихотворении Гумилева это состояние неопределенного душевного порыва и обозначено как стремление к «несуществующим, но золотым полям», и в полном согласии со святоотеческим учением оно трактуется здесь как источник похоти. «Теплая» душа, стремящаяся не конкретно к «ногам Христа», а куда-то в ту сторону, никогда не сможет «своими силами» укротить восстающую на нее «плоть». В стихотворении Гумилева бессилие «высокой души» перед «низменными» соблазнами «тела» поясняется тем, что «душевные» интересы обусловлены лишь эфемерным видением «несуществующих золотых полей», а интересы тела неразрывно связаны с реальной в своей материальной грубости «землей»:
«Голос земли», раздающийся в теле в ответ на его жалобы, настойчиво советует:
Гумилевская «земля», как мы видим, повторяет слова первородного проклятия, которое поразило Адама и его потомков после грехопадения: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). Ничего иного для человека, отпавшего от возрождающего любовного взаимодействия с Богом, нет и быть не может, сколь бы ни была «мятежна» его душа в своем стремлении к «несуществующим золотым полям».
Стихотворный триптих «Душа и тело» продолжает тему «Разговора», причем изображение «душевно-телесного» конфликта содержит ряд автореминисценций: душа «похотствует» на «презренное» телесное бытие из-за его «земной грубости»:
— и в то же время сознает безнадежную несостоятельность своих попыток порвать эту «цепь». Удел души — «холодное презрительное горе». Тело же произносит гимн чувственным «земным» радостям:
— но при этом не менее ясно сознает их преходящий характер:
Однако их неразрешимый в «Разговоре» конфликт в цикле «Душа и тело» вдруг «снимается» после обнаружения в человеческом существе третьего начала, равно преобладающего как над жизнью души, так и над жизнью тела:
Р. Эшельман, стремясь увязать позднее гумилевское творчество с современными поэту мистическими и оккультными учениями, полагал, что третья часть стихотворения представляет собой монолог «астрального тела», в качестве «субстанции» иерархически подчиняющего себе «акцидентальные» «душевные» и «телесные» проявления человеческого бытия. Гипотеза Р. Эшельмана была бы приемлема, если бы он сам не отмечал, что «Гумилев не называл себя мистиком и не использовал мистической терминологии», а образы, которые имеют основание в герметической символике, употребляются в «Душе и теле» настолько произвольно, что данный текст может служить «примером гумилевского мифопоэтического эклектизма» (см.: Eshelman R. «Dusa i telo» as a paradigm of Gumilev's mystical poetry // Nikolaj Gumilev. 1886–1986. Berkeley, 1987. P. 123, 122).
Но если предположить, что в цикле Гумилева идет речь не об «астральном теле», а об «образе Божьем»— «христианском эквиваленте» оккультного понятия (по определению самого Р. Эшельмана), — недоразумения в интерпретации гумилевского замысла сразу разрешаются. Понятие «образа Божьего» в православной антропологии не будет ясно до конца, если не соотнести его с понятием «подобия Божьего»: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1: 26–27). Из этого кажущегося противоречия в двух стихах Книги Бытия, повествующих о сотворении человека, следует православное учение о различии в человеке «образа» и «подобия Божьего» как о различии данности и потенциальной возможности.
Можно потому сказать: все содержание христианского подвига заключается в том, чтобы заложенный в каждом «образ Божий» развился в «подобие Божие». Православная философия (в отличие, например, от католической) исходит из того, что в катастрофе грехопадения «образ Божий», дарованный человеку в момент творения, сохранился неизменно, и, следовательно, даже в смертном состоянии каждому возможно «развить» его в некое «богоподобие». «Первородный грех лишил человека принадлежавших ему по его тварному чину… благодатных даров из-за того, что в нем нарушено естество человека: он заболел, в результате потерял власть над собой и стал смертен, — писал о. Сергий Булгаков. — Но эта немощь… не упразднила в нем образа Божия, как внутренней основы и нормы его естества. Не упразднила и его свободы, как бы ни была она умалена грехом, и его самотворчества, хотя уже и в ослабленной степени» (Протоиерей Сергий Булгаков. Купина неопалимая. Вильнюс, 1990. С. 64–65).