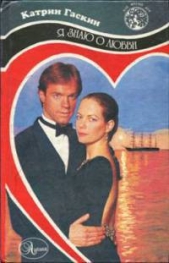Николай Гумилев
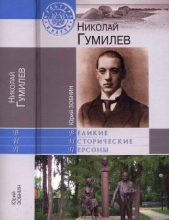
Николай Гумилев читать книгу онлайн
Долгое время его имя находилось под тотальным запретом. Даже за хранение его портрета можно было попасть в лагеря. Почему именно Гумилев занял уже через несколько лет после своей трагической гибели столь исключительное место в культурной жизни России? Что же там, в гумилевских стихах, есть такое, что прямо-таки сводит с ума поколение за поколением его читателей, заставляя одних каленым железом выжигать все, связанное с именем поэта, а других — с исповедальным энтузиазмом хранить его наследие, как хранят величайшее достояние, святыню? Может быть, секрет в том, что, по словам А. И. Покровского, «Гумилев был поэтом, сотворившим из своей мечты необыкновенную, словно сбывшийся сон, но совершенно подлинную жизнь. Он мечтал об экзотических странах — и жил в них; мечтал о немыслимо-ярких красках сказочной природы — и наслаждался ими воочию; он мечтал дышать ветром моря — и дышал им. Из своей жизни он, силой мечты и воли, сделал яркий, многокрасочный, полный движения, сверкания и блеска поистине волшебный праздник"…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Основная идея Соловьева — человек качественно однороден с природой, — является частью общего «мирового целого». «… Нет никакой возможности, — утверждает Соловьев, — оставаясь на научной почве, отделить человека […] от всего остального мира… Нет во всей природе такой пограничной черты, которая делила бы ее на совершенно особенные, не связанные между собой области бытия, повсюду существуют переходные, промежуточные формы, или остатки таких форм, и весь видимый мир не есть собрание деланных вещей, а продолжающееся развитие или рост единого живого существа» (Соловьев В. С. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев B.C. Литературная критика. М., 1990. С. 110; ср.: Соловьев B.C. Оправдание добра (гл. 9 «Действительность нравственного порядка») // Соловьев B.C. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 266–281). Дальнейшее рассуждение просто: если у человека есть не только тело, но и душа, значит, и у природы, нераздельной частью которой человек является, тоже должно быть не только материальное «тело», но и стоящая за ним «душа». А дальше следует вывод совсем уже простой: если весь «природный» космос — единое большое существо, качественно подобное человеку, со своей душой, отличной от человеческой только «по степеням и формам», то, значит, «душа мира», так же, как и душа человека, открыта навстречу Богу, значит космос, тоже «спасается», правда, процесс спасения «космической души» нисколько не похож на процесс спасения души человеческой.
Определяя характер «спасающейся космической души», Соловьев вводит понятие хаоса. «Хаос, т. е. отрицательная беспредельность, зияющая бездна всякого безумия и безобразия, демонические порывы, восстающие против всякого положительного и должного — вот глубочайшая сущность мировой души и основа всего мироздания. Космический процесс вводит эту хаотическую стихию в пределы всеобщего строя, подчиняет ее разумным законам, постепенно воплощая в ней идеальное содержание бытия, давая этой дикой жизни смысл и красоту» (Соловьев B.C. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев B.C. Литературная критика. М., 1990. С. 113–114; ср.: Соловьев B.C. Оправдание добра (гл. 11 «Историческое развитие лично-общественного сознания в его главных эпохах») // Соловьев B.C. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 321–322). Поэтому, по мнению Соловьева, не надо бояться хаоса, т. е. темных, иррациональных, чувственных страстей. Хаос, коль скоро он есть «мировая душа», можно и нужно спасти, он тоже ценен для Бога.
«Спасение» хаоса, т. е. «овладение» им (а не отрицание его), мыслится Соловьевым двояко: Бог «спасает» хаос непосредственным личным действием, а человек, наделенный сознанием и свободой воли, должен спасать хаос своей волей, «овладевая» им как в себе самом, так и во внешнем природном мире.
В творчестве Тютчева Соловьев и видит утверждение ценности хаоса. Тютчев, по мнению Соловьева, не только признает наличие у природы «души», не только недвусмысленно определяет эту «душу» как хаос, но и любит хаос, идет навстречу хаосу, пытаясь им «овладеть» доступными ему поэтическими средствами эстетизации. Тютчев показывает красоту хаоса. «… Сам Гете, — пишет Соловьев, — не захватывал, быть может, так глубоко, как наш поэт, темный корень мирового бытия, не чувствовал так сильно и не сознавал так ясно ту таинственную основу всякой жизни, — природной и человеческой, — основу, на которой зиждется и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества. Здесь Тютчев действительно является вполне своеобразным и если не единственным, то, наверное, самым сильным во всей поэтической литературе. В этом пункте — ключ ко всей его поэзии, источник ее содержательности и оригинальной прелести» (Соловьев B.C. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев B.C. Литературная критика. М., 1990. С. 112). Для подтверждения сказанного приводилось тютчевское стихотворение «День и ночь»:
Отдавая должное мастерству Соловьева-критика, нельзя, конечно, не испытать некоторое сомнение, — коль скоро его учение о «спасении хаоса» путем сознательного «овладения» им «просветляющей» человеческой волей мы спроецируем в конкретику нашей повседневной жизнедеятельности. Столкновение с проявлениями природного «хаоса», как «внешними»(допустим, встреча с диким хищным зверем), так и «внутренними» (пробуждение темных инстинктов), вызывает у нормального человека, как правило, сугубо отрицательные эмоции. Сомнения наши еще более укрепляются тем, что у самого Тютчева, вопреки утверждениям Соловьева, мы никак не находим особых восторгов по адресу ощущаемого им повсюду присутствия «хаоса». Так, «ночь» мироздания кажется Федору Ивановичу «страшной».
— заклинает он ночной ветер в другом стихотворении, которое также цитирует Соловьев, а в третьем, опять-таки попавшем в поле зрения Соловьева, сетует:
«И это не есть случайность, — комментирует Соловьев тютчевские строки, — а роковая необходимость земной любви, ее предопределение» (СоловьевВ.C. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев B.C. Литературная критика. М., 1990. С. 116). Иначе как весьма сомнительной сентенцией такой комментарий, конечно, признать нельзя: вовсе не необходимо губить любимых людей. Мы действительно можем погубить доверившегося нам человека, если отдадимся «буйной слепоте страстей» — за это и корит себя Тютчев, — но на то у нас и свобода воли, чтобы этой «буйной слепоте» противодействовать.
Нет, все-таки странное что-то присутствует в соловьевской трактовке Тютчева!
Однако символисты-«соловьевцы» никаких противоречий здесь не замечали. «Тютчевский вопрос» в эстетических манифестах символизма подавался именно как вопрос об оправдании хаоса — «души природы», ценной для «судьбы человеческой души и всей истории человечества». Статья Соловьева «в каком-то смысле […] явилась этапной в интерпретации поэзии Тютчева и оказала большое влияние на ранних символистов, причислявших великого лирика к своим предшественникам» (Цимбаев Н. И., Фатющенко В. И. Владимир Соловьев — критик и публицист // Соловьев B.C. Литературная критика. М., 1990. С. 27).
Иначе и быть не могло: соловьевская трактовка тютчевского творчества давала замечательную возможность для обоснования провиденциальной миссии «нового искусства», превращая Тютчева в идеальный образ поэта — теурга. Этот богословский термин был перетолкован Соловьевым в «Философских началах цельного знания» (1877), став обозначением художника, в деятельности которого «мистика во внутреннем соединении с остальными степенями творчества, именно с изящным искусством и с техническим художеством образует одно органическое целое, единство которого, как и единство всякого организма, состоит в общей цели […] Цель здесь мистическая — общение с высшим миром путем внутренней творческой деятельности. Этой цели служат не только прямые средства мистического характера, но также и истинное искусство и истинная техника (тем более что источник у всех трех один — вдохновение)» (Соловьев B.C. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 174).