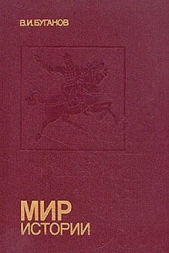Идея истории. Автобиография
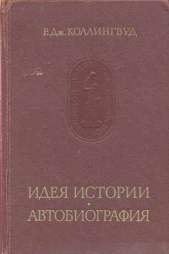
Идея истории. Автобиография читать книгу онлайн
Как продукты воображения, работы историка и романиста нисколько не отличаются. В чём они различаются, так это в том, что картина, созданная историком, имеет в виду быть истинной.
(Р. Дж. Коллингвуд)
Существующая ныне история зародилась почти четыре тысячи лет назад в Западной Азии и Европе. Как это произошло? Каковы стадии формирования того, что мы называем историей? В чем суть исторического познания, чему оно служит? На эти и другие вопросы предлагает свои ответы крупнейший британский философ, историк и археолог Робин Джордж Коллингвуд (1889—1943) в знаменитом исследовании «Идея истории» (The Idea of History).
Коллингвуд обосновывает свою философскую позицию тем, что, в отличие от естествознания, описывающего в форме законов природы внешнюю сторону событий, историк всегда имеет дело с человеческим действием, для адекватного понимания которого необходимо понять мысль исторического деятеля, совершившего данное действие. «Исторический процесс сам по себе есть процесс мысли, и он существует лишь в той мере, в какой сознание, участвующее в нём, осознаёт себя его частью». Содержание I—IV-й частей работы посвящено историографии философского осмысления истории. Причём, помимо классических трудов историков и философов прошлого, автор подробно разбирает в IV-й части взгляды на философию истории современных ему мыслителей Англии, Германии, Франции и Италии. В V-й части — «Эпилегомены» — он предлагает собственное исследование проблем исторической науки (роли воображения и доказательства, предмета истории, истории и свободы, применимости понятия прогресса к истории).
Согласно концепции Коллингвуда, опиравшегося на идеи Гегеля, истина не открывается сразу и целиком, а вырабатывается постепенно, созревает во времени и развивается, так что противоположность истины и заблуждения становится относительной. Новое воззрение не отбрасывает старое, как негодный хлам, а сохраняет в старом все жизнеспособное, продолжая тем самым его бытие в ином контексте и в изменившихся условиях. То, что отживает и отбрасывается в ходе исторического развития, составляет заблуждение прошлого, а то, что сохраняется в настоящем, образует его (прошлого) истину. Но и сегодняшняя истина подвластна общему закону развития, ей тоже суждено претерпеть в будущем беспощадную ревизию, многое утратить и возродиться в сильно изменённом, чтоб не сказать неузнаваемом, виде. Философия призвана резюмировать ход исторического процесса, систематизировать и объединять ранее обнаружившиеся точки зрения во все более богатую и гармоническую картину мира. Специфика истории по Коллингвуду заключается в парадоксальном слиянии свойств искусства и науки, образующем «нечто третье» — историческое сознание как особую «самодовлеющую, самоопределющуюся и самообосновывающую форму мысли».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В следующем году, осознав свою неудачу, он предпринимает новую попытку. Является ли история, спрашивает он в лекции «Место современной истории в перспективах познания», простым резервуаром фактов, накапливаемых для социологов или антропологов, или же она независимая наука, изучаемая ради нее самой. Он не может ответить на поставленный вопрос, ибо понимает, что это вопрос философский и потому лежащий вне его компетенции. Тем не менее он рискует предложить гипотетический ответ. Если мы примем натуралистическую философию, «тогда, я думаю, мы должны сделать вывод, что история в рамках этой системы мысли подчинена социологии или антропологии... Но при идеалистической интерпретации познания дело обстоит иначе... Если мысль — не результат, а предпосылка естественного процесса, то отсюда следует, что история, для которой мысль — и отличительный признак, и движущая сила, принадлежит к другой категории идей, отличной от царства природы, и требует иного подхода».
Здесь он останавливается. Его духовное развитие подошло к драматической кульминации. Убежденность в значимости и ценности исторической мысли вступила в явный конфликт с его собственной позитивистской подготовкой и принципами. Преданный слуга истории, он сделал нужные выводы.
В 1909 г. он опубликовал очерк «Дарвинизм и история», в котором идея объяснения исторического факта ссылкой на общие законы подвергалась продуманной критике. Аналогии — да, законы — нет. На самом деле исторические события объясняются «случайными совпадениями». Примерами этих совпадений будут «внезапная смерть вождя, бездетный брак» и вообще решающая роль индивидуальности в истории, которую социология ошибочно сбрасывает со счетов, чтобы облегчить себе задачу свести историю к униформизму естествознания. «Главы, написанные случаем», постоянно искажают ход исторического процесса. В очерке «Нос Клеопатры» (1916) он повторяет ту же идею. История определяется не причинными рядами, аналогичными рядам, составляющим предмет изучения естественных наук, но случайным «столкновением двух или большего числа причинных рядов». Эти слова Бьюри кажутся простым повторением соответствующего тезиса Курно, высказанного им в его «Considerations sur la marche des idees et des evenements dans les temps modernes» [66] (Париж, 1872), где он развил теорию случайности, основываясь на разграничении понятий «общей» и «специальной» причины. Случайность определяется им как «взаимонезависимость нескольких рядов причин и следствий, случайно накладывающихся друг на друга» (курсив автора: op. cit., v. I, p. 1). Сопоставление примечания в «Идее прогресса» [67*] Бьюри и ссылки в «Дарвинизме и истории» [68*] позволяет сделать вывод, что Бьюри заимствовал свою теорию у Курно. Тот, однако, разрабатывал ее, исходя из того, что если какое-нибудь историческое событие чисто случайно, то не может быть и никакой его истории. Подлинная задача истории, утверждает он, — разграничение необходимого и случайного. Бьюри развивает или, скорее, разлагает эту теорию, добавляя к ней идею о том, что неповторимость истории все в ней делает случайным, лишенным необходимости. Однако, завершая свой очерк, Бьюри высказывает предположение: «Со временем случайности станут играть все меньшую и меньшую роль в эволюции человечества и случай будет иметь меньшую власть над ходом событий».
Последний параграф этого очерка производит на читателя тяжелое впечатление. С большим трудом Бьюри в течение предшествующих двенадцати лет пришел к учению об истории как познании индивидуального. Он рано понял в процессе своего духовного развития, что эта концепция необходима, чтобы обосновать достоинство и значимость исторической мысли. Но к 1916 г. он настолько разочаровался в своем открытии, что был готов предать его и видеть в этом самом индивидуальном (а следовательно, случайном) иррациональный элемент мира, надеясь, что с прогрессом науки он когда-нибудь будет полностью уничтожен. Если бы он твердо придерживался собственной идеи, он бы понял и то, что эта надежда тщетна (ибо он сам же доказал необходимость появления случайностей в том смысле, как он их понимал), и то, что, питая надежду такого рода, он предает свое историческое призвание.
Этот катастрофический вывод, от которого он уже никогда более не отступал, можно объяснить следующим образом: вместо того чтобы считать индивидуальность самой сутью исторического процесса, он всегда рассматривал ее как всего лишь частное и случайное вмешательство в последовательность событий, которые по своей природе носят казуальный характер. Индивидуальность значила для него только необычное, исключительное, она — разрыв привычного хода событий, который означает казуально определенный и познаваемый наукой ход событий. Но сам Бьюри знал, и знал это уже в 1904 г., что история не состоит из казуально определенных и научно познаваемых событий. Эти идеи уместны для познания природы, но история, как правильно говорил он тогда, «требует иной интерпретации». Если бы он последовательно развил идеи своего раннего очерка, он пришел бы к выводу, что индивидуальность как раз и является тем, из чего слагается история, а вовсе не есть что-то, время от времени появляющееся в истории в виде случайного, неожиданного. Этого вывода он не смог сделать из-за своего позитивистского предрассудка, будто индивидуальность, как таковая, непознаваема и, следовательно, научное обобщение — единственно возможная форма знания.
Таким образом, поняв, что «идеалистическая» философия — единственная философия, объясняющая возможность исторического знания, Бьюри снова вернулся к «натуралистической» философии, которую и пытался опровергнуть. Выражение «историческая случайность» свидетельствует об окончательном крахе его мысли. Случайность — нечто неразумное, непонятное, а случайность в истории — просто термин, означающий «роль личности в истории», роль, воспринятая через призму позитивизма, считавшего непонятным все, за исключением общего. Профессор Норман Бейнес, который сменил Бьюри на посту крупнейшего специалиста по позднеримской и византийской истории, говорил с горечью об «опустошительной доктрине случайности в истории», которая затуманила историческую прозорливость Бьюри к концу его жизни. Эта критика справедлива. Лучшие работы Бьюри были вдохновлены верой в автономность, внутреннее достоинство исторической мысли. Но атмосфера позитивизма, в которой сформировался его ум, подточила эту веру и свела подлинный предмет исторического знания до уровня чего-то такого, что, не будучи предметом естественнонаучной мысли, становилось непонятным.
Бьюри, однако, дал историкам пример того, как надо анализировать философские предпосылки их собственного труда, и этот пример не остался без внимания. В Кембридже он был воспринят по крайней мере одним из историков следующего поколения, историком, значительно превосходившим Бьюри в смысле философской подготовки. Я имею в виду Майкла Оукшотта {22} из Киз Колледжа, опубликовавшего книгу под названием «Опыт и его формы» (Кембридж, 1933), в которой он обстоятельно и мастерски рассматривает философские проблемы истории. Основной тезис этой книги таков: опыт — «конкретное целое, которое только в анализе можно разделить на переживание и то, что переживается». Опыт — не непосредственное сознание, простой поток ощущений и чувств, как у Брэдли, он также всегда включает в себя мысли, оценки, утверждения, касающиеся реальности. Нет ощущения, которое не было бы в то же самое время и мыслью, интуиции, которая не была бы и суждением, волевого акта, не являющегося также и познавательным. Все эти разграничения, как и разграничение субъекта и объекта, ни в коем случае не являются произвольными или мнимыми. Мы имеем дело не с ложным расчленением самого опыта, они его интегральные элементы. Но они — различия, а не барьеры, и прежде всего они различия внутри опыта, а не различия между элементами опыта и чем-то, чуждым ему. Следовательно, мысль как таковая не выступает, как у Брэдли, фальсификацией опыта, ведущей к разрушению его непосредственности; мысль — это сам опыт, а мысль как «опыт без ограничений или барьеров, без предпосылок или постулатов, без пределов или категорий» есть философия.