Дзига Вертов
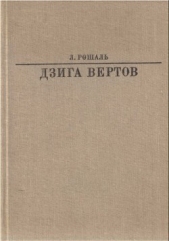
Дзига Вертов читать книгу онлайн
Книга посвящена выдающемуся советскому кинорежиссеру, создателю фильмов «Ленинская Кино-Правда», «Шагай, Совет!», «Шестая часть мира», «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине» и др., ставших классикой мирового киноискусства, оказавших огромное влияние не только на развитие отечественной кинопублицистики, но и на весь процесс формирования мирового киноискусства. Жизнь и творчество Вертова исследуются автором на широком историческом фоне.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Последние три слова стояли в кадре во весь экран.
Экран сближал людей, живущих в разных уголках Советской земли.
Монтажом показывалась и одновременно преодолевалась географическая и этнографическая пестрота жизни во имя понимания ее новой социальной цельности.
Монтаж закладывал зрительную основу обобщений.
Надписи довершали их словесно.
Слово высвобождало скрытую в документе энергию.
Факты прогонялись через слово, как через атомный реактор.
Получали мощный заряд пафоса.
Превращались, как любил говорить Вертов, в экстракт выводов.
Дело, естественно, было не только в слове — в общем строе ленты, в монтажной системе размышлений, сочетающейся со словом.
Но слово трудилось в фильме неутомимо.
Рефренное «Вы…», «Вы…», «Вы…» придавало репортажно снятым кадрам простой, обыденной жизни сначала оттенок загадочности, потом все возрастающей многозначности и в конце концов поднимало людей, совершающих в кадре каждодневные действия (купают овец, охотятся, прядут шерсть, кормят детей, стирают белье, смотрят в зрительном зале кино), на высоту нового понимания человека и его общественного предназначения.
Предметы в кадре, говоря словами Эйзенштейна, выходили из самих себя. Из своего обычного состояния.
Они обретали новые качества, получали новое измерение.
Жизнь, ограниченная своим привычным микромиром, становилась частицей макромира.
Рефрены меняли характер изображения: хроника становилась зрелищем — ярким, необычным, острым.
Вертовские поиски способов обострения обыденного, выведения заурядного из рядового состояния смыкались с поисками новаторского искусства тех лет, с идеями «остранения», «очуждения» действительности, преломленной искусством.
В этом Вертов оказывался близок даже театру, исканиям Мейерхольда, начинаниям Брехта.
С Мейерхольдом Вертова познакомил Февральский. Вертов ходил на спектакли, смотрел с интересом.
Театр Мейерхольда издавал своеобразный журнал-программу «Афиши ТИМ».
В третьем номере (ноябрь 1926 г.) была помещена короткая, но емкая статья, спорящая со сделанным в это время заявлением Эйзенштейна о гибели театра перед лицом кинематографа. В ней довольно убедительно доказывалось: многие сцены «Потемкина», в частности финальная (встреча с царской эскадрой), воздействуют на зрителя потому, что повторные движения орудий, тень от судна на воде, движение стрелок манометра являются не натюрмортами, а живыми участниками игры, становятся снимками не фактической, а театральной данности, театрального воздействия. Это обеспечивает успех кинематографии Эйзенштейна с такой же закономерностью, с какой отсутствие театральности, замечал безвестный автор (имя его не было указано), до сих пор мешало успеху Дзиги Вертова.
Вывод относительно Вертова был несколько поспешным. То, что касалось сцены «Потемкина» с ожившими благодаря игре предметами, присутствовало во многих лентах Вертова, в том числе в застучавших сердцах машин после митинга автобусов.
Театральность возникала не как впрямую поставленная цель, а как объективно возникающий эффект воздействия — воздействия разворачивающегося, разыгрывающегося на глазах зрителя зрелища. Кино беспредельно расширило возможности игры (по сравнению с театром) за счет введения в игру не только актера, но и предметов, не только актера, но и неактера — живого, подлинного человека.
Люди, втянутые в орбиту «Шестой части мира», оказались сближенными игрой — монтажом, словом.
Все это способствовало созданию необычайного, отстраненного зрелища.
Игра преломляла действительность, но не переламывала ее.
Отстраненность зрелища в «Шестой части мира» помогала обострению мысли — не отвлеченной, вытекающей из суммы реальных жизненных обстоятельств.
Может быть, поэтому автор статьи отметил, что отсутствие театральности мешало успеху Вертова «до сих пор», статья была написана как раз в пору нарастающего успеха «Шестой части мира».
Не случайно этот же номер «Афиш ТИМ» напечатал не безоговорочную, но в итоге благожелательную рецензию на фильм Вертова.
У Вертова не было прямых учителей.
Но у него были свои стойкие привязанности.
«Шестая часть мира» несла на себе отсвет одновременно трех его поэтических пристрастий, верность им он сохранял всю жизнь.
В стремлении рассказать о времени через себя и о себе через время, в желании воспеть шестую часть мира, в пафосе прямых ораторских обращений к массам, чеканном ритме поэтических кадров и строк — во всем этом жила любовь к Маяковскому.
Вертов не «продолжал» и не «развивал» Маяковского, не шел за ним «вслед», как писали позже некоторые критики, справедливо улавливая их близость.
Вертов шел самостоятельно.
Спустя полтора десятка лет, в войну, он говорил:
— Маяковский любил меня за то, что я не Маяковский. А Кацман не любит меня за то, что я не Кацман.
Кацман был редактором, в вертовские работы он постоянно вносил поправки.
Вертов шел самостоятельно — не к Маяковскому, а к себе.
Но понимание целей, методов искусства было предельно сближенным.
Творческая атмосфера, в которой жил Вертов, постоянно озарялась маяковскими молниями.
Существовал настрой на единую волну.
Кино двадцатых годов, в том числе Вертова, нельзя понять без Маяковского.
Но и поэзию тех лет, в том числе Маяковского (может быть, его в особенности), нельзя понять вне кинематографических явлений, в том числе и такого, как Вертов.
Октябрьская поэма «Хорошо» была написана через год после выхода «Шестой части мира».
Маяковский и Брик восторженно рассказывали о фильме немецкому писателю Ф.-К. Вейскопфу, приезжавшему в Москву в 1926 году.
Маяковский числил Вертова среди лефовцев, печатал его в своем журнале.
Вертов считал, что Маяковский в искусстве — Кино-Глаз, видит то, чего обычный глаз не видит, часто делал выписки из Маяковского, подтверждающие это: «Осмеянный у сегодняшнего племени, как длинный, скабрезный анекдот, вижу идущего через годы времени, которого не видит никто».
Выписку Вертов сделал в тридцать пятом году, подчеркнув слово «вижу».
Этим словом девять лет назад начиналась «Шестая часть мира».
В другой раз Вертов записал:
Глаза газет — здесь тоже было что-то киноглазовское.
Вертов вспоминал: Маяковского он полюбил сразу, без колебаний. С первой прочитанной книжки.
Книжка называлась «Простое, как мычание».
Он знал Маяковского наизусть. Защищал его, как мог, от ругани, разъяснял.
Когда впервые увидел поэта в Политехническом музее, не был разочарован — представлял его именно таким.
Позже они познакомились, встречи всегда были короткими: на улице, в клубе, на вокзале, в кино.
Вертову нравилось, что Маяковский называл его Дзига.
— Ну, как Кино-Глаз, Дзига? — спросил Маяковский однажды. Это было где-то в пути на железнодорожной станции, их поезда встретились.
— Кино-Глаз учится, — ответил Вертов. — Кино-Глаз — маяком на фоне шаблонов мирового кинопроизводства…
В последний раз они встретились в Ленинграде, в вестибюле гостиницы «Европейская».
Маяковский увидел Вертова, сказал:
— Надо поговорить без спешки. Поговорить серьезно. Нельзя ли сегодня устроить «полнометражный» творческий разговор?
Вертов поднимался в лифте и думал, что «жизнь прекрасна и удивительна», что «лет до ста расти нам без старости…».























