Дзига Вертов
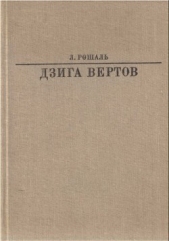
Дзига Вертов читать книгу онлайн
Книга посвящена выдающемуся советскому кинорежиссеру, создателю фильмов «Ленинская Кино-Правда», «Шагай, Совет!», «Шестая часть мира», «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине» и др., ставших классикой мирового киноискусства, оказавших огромное влияние не только на развитие отечественной кинопублицистики, но и на весь процесс формирования мирового киноискусства. Жизнь и творчество Вертова исследуются автором на широком историческом фоне.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В этих противопоставлениях виден жесткий максимализм эпохи.
Но и ее нравственная чистота: личное бессребреничество многих перед необходимостью немедленного умножения общественных богатств.
В список изделий, отражающих, по мнению Вертова, буржуазные привычки и вкусы, попали и такие, которые вряд ли несли в себе пугающую заразу политического и морального разложения.
Но, как уже говорилось, вещь шла на вещь.
Для понимания замысла, к которому шел Вертов, важно другое: в каждой паре предметов, разделенных Вертовым, по одну сторону «или» стояли вещи личного обихода, по другую — коллективного пользования.
Физкультура обеспечивала здоровье и бодрость широчайших масс, красивенький бюстгальтер удовлетворял индивидуальные потребности.
Не только «Coty l'arigent», пудра, панталоны — трактора, станки, удобрения для полей по своему происхождению были в данном случае изделиями буржуазными, они ввозились из-за границы.
Но трактора и станки способствовали росту общественного могущества, помогали осуществлению планов, которые ставила перед собой страна.
В вертовском противопоставлении вещей было немало наивного и прямолинейного, а смысл за всем этим стоял отнюдь не наивный и не прямой.
Стремлению поскорее удовлетворить свои потребности противостояла жажда удовлетворения коллективных интересов.
Но удовлетворение коллективных интересов начиналось с индивидуальных усилий.
Не с ввоза станков и тракторов, гораздо раньше.
С меткого выстрела безвестного таежного охотника, снявшего соболя с хмурой разлапистой ели.
С выловленной безвестным сибирским рыбаком рыбины.
С хлебного поля, выращенного крестьянином.
С овечьих, «каракулевых» стад, пасущихся под присмотром задумчивых пастухов на пастбищах Дагестана и Туркмении.
С той незаметной, повседневной работы, плоды которой вступали в оборот внешнеторгового обмена.
На всех широтах огромной страны люди с разными темпераментами, обрядами, поверьями, с несхожим обликом, разрезом глаз, с неодинаковыми песнями и танцами, одеждами, угощениями и лакомствами скромно делали свое привычное дело, но впервые привычное дело каждого становилось частицей общего труда во имя лучшей жизни для всех.
Между ткнувшимся в снег соболем и новенькими тракторами, разгружаемыми в Новороссийском порту, пролегли тысячи километров.
А на самом деле расстояния между ними не было. Как его не было между каракулевой шкуркой и товарным составом с заграничными станками.
Самой логикой новых отношений труд каждого поднимал могущество страны, вливался в труд всей республики, хотя охотники из безмолвной тундры, рыбаки с дальних северных рек, пастухи Дагестана и Туркмении, хлеборобы Кубани, льноводы Полесья, сборщицы кавказского винограда, наверное, об этом и не догадывались.
Значит, надо сделать в картине все, чтобы они догадались.
Значит, надо показать, как обыденный, повседневный труд отдельного человека соучаствует в общем строительстве повой жизни и как человек труда становится ее хозяином, распорядителем судеб шестой части мира.
От мотива противопоставления вещей Вертов отказался, он звучал только в самом начале, Вертов рассказывал о труде огромного большинства в странах капитала, в колониях на потребу сытости, уюта, комфорта немногих.
Но заложенная в противопоставление тема коллективного созидания, складывающегося из множества отдельных усилий, постепенно вырастала в главную идею ленты.
Она давала возможность поиска новых форм спрессования пространства и времени.
Пробег Кино-Глаза сквозь СССР имел, как и когда-то в «Кино-Правде», не географический, а социальный смысл, хотя охватывал географию всей страны — от края до края.
Вертов все отчетливее понимал, что перед ним возникает небывалая по размаху и сложности творческая задача: поднять обыкновенного человека до масштабов хозяина шестой части мира в минуту его обыденной жизни. Нельзя было допустить, чтобы обыденность ушла из ленты, тогда между экраном и жизнью установятся искусственные отношения.
Картина должна быть сплетена, как кружева, тончайшим образом из множества рядовых мгновений человеческой жизни, и прежде всего человеческого труда, снятых операторами на всем пространстве Советской земли.
Но необходимо найти способ выведения этих рядовых мгновений из обыденного ряда.
Требовалась такая мощь обобщений, какая возможна и оправданна, пожалуй, в одном виде искусства — поэзии.
Может быть, еще — в музыке.
Появятся только самые первые рецензии после самых первых, закрытых просмотров, а они уже сразу запестрят словами «поэма», «симфония».
Недавний сокрушитель этих традиционных жанров творчества протестовать не станет.
Нет, он не принимался за картину «Пробег Кино-Глаза сквозь СССР» с мыслью, что на этот раз сложит поэму, сотворит киносимфонию.
Но его привела к этому логика замысла.
Своеобразие судьбы этого художника связано с одним довольно редким обстоятельством в искусстве — у него никогда не было прямых и непосредственных учителей.
Существовал, конечно, опыт других видов художественного творчества, он не прошел для Вертова бесследно.
Но учителей в той области, в которой он работал (учителей не ремесла, а методов художественного осмысления фактического киноматериала), не существовало, потому что не существовало самой области, не было предшественников.
Однако прекрасный материал для обучения давал собственный опыт.
Вертов отнюдь не варился в собственном соку.
Был внимателен к другим видам искусства и смежным видам кинематографа, к тому, что происходило в документальном кино.
Многое в нем Вертова не устраивало, в особенности нетворческое отношение к организации снятого материала.
Но плодотворность самоанализа заключалась в том, что многое его не устраивало и в собственном опыте.
Во всяком случае, свое предшествующее он никогда не считал незыблемым для своего настоящего — все зависело от конкретного материала и вызревающей в нем идеи.
Вертов никогда не ходил в учениках, но никогда не забрасывал учения.
Он приходил к лирико-поэтическим, художественным жанрам, которые отрицал.
На самом деле он отрицал не жанры, а старое их понимание.
Он пришел к старым жанрам, но понял их по-новому.
Им высмеивался механический «синтез» искусств на экране.
Ко времени «Шестой части мира» Вертов ощутил в себе силы, способные создать условия для органического взаимодействия различных искусств.
К тому же стремление к смысловому синтезу естественно вело к синтезу средств выражения.
Полифония смысловых оттенков в разнообразных кадрах, концентрирующихся вокруг ведущей темы, движение материала по параллельным и ассоциативным линиям в сочетании с выверенным метром и ритмом вызывало ощущение могучих музыкально-поэтических звучаний.
И во все это вплетался еще один, самый существенный компонент — слово.
Здесь Вертов вступал в полемику с собой не только прошлым, но и будущим.
Никогда слово не приобретало в его лентах такого значения, какое приобрело в этом фильме.
Дело не в количестве надписей, в «Шагай, Совет!» их было не меньше.
Но новая картина выдвинула новые условия.
В прежнем фильме надписей было много, но предельное смысловое слияние с изображением делало их присутствие почти незаметным.
В «Шестой части мира» слово не таилось, не старалось полностью войти в плоть изображения, растворясь в нем, а открыто летело с экрана навстречу зрителю.
Надпись переставала быть обычным титром, она как бы вытеснялась за скобки фильма.
Вертов называл картину опытом уничтожения надписей через их выделение в слово-радио-тему.
Написанное слово превращалось в слово произнесенное, произнесенное как бы за кадром, хотя в условиях немого кино оно, конечно, появлялось на экране в виде надписей в кадре.
Но строй надписей, их интонационная основа делали написанные слова звучащими.
Не случайно Вертов говорил о выделении надписей в слово-радио-тему.























