Дзига Вертов
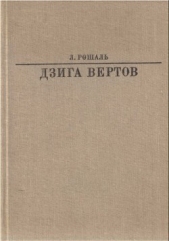
Дзига Вертов читать книгу онлайн
Книга посвящена выдающемуся советскому кинорежиссеру, создателю фильмов «Ленинская Кино-Правда», «Шагай, Совет!», «Шестая часть мира», «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине» и др., ставших классикой мирового киноискусства, оказавших огромное влияние не только на развитие отечественной кинопублицистики, но и на весь процесс формирования мирового киноискусства. Жизнь и творчество Вертова исследуются автором на широком историческом фоне.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Зрительское ощущение слышимого симфонизма ленты во многом предопределялось ощущением звучащего с экрана слова.
Вертов не информировал, не пояснял, не комментировал, а открыто ораторски обращался в зал.
В частных моментах он предпринимал подобные попытки и прежде — начиная с первого номера «Кино-Правды» («Спасите голодающих детей!!!») и кончая последним перед «Шестой частью мира» опытом «Шагай, Совет!» с митингом автобусов и выступлением оратора.
Но впервые это стало принципом строения целого фильма.
Верный себе, Вертов не подменял словом изображение, не подчинял ему монтаж.
Стягивая множество фактов в один узел, монтаж подчинялся основной смысловой задаче: выявлению генеральной линии страны на строительство новой жизни при всеобщем участии народа, берущего свою судьбу в собственные руки.
Монтаж кадров строился в виде внутреннего монолога (разрозненные картины сближаются друг с другом мысленно).
Монтаж слов, сочетавшийся с монтажом изображений, был монологом, произнесенным вслух.
Но и тот и другой подчинялись логике единой мысли, она выражала логику объективных жизненных закономерностей.
Вне ее вся эта поистине грандиозная конструкция рухнула бы.
Однако открытая патетика обобщений оправдывалась не только точным соотнесением их смысла с глубинной сутью жизненных явлений.
Мера и способ обобщения оправдывались и точно понятыми закономерностями избранного жанра.
Откровенности пафоса соответствовал открыто-лирический строй ленты — надписей прежде всего.
Призыв, брошенный с экрана в зал в первой «Кино-Правде», принадлежал и автору, и еще тысячам и миллионам, они спасали умирающих от голода детей.
Клич передавал эмоции всех и каждого, но был лишен индивидуального выражения.
На митинге автобусов слова, разносившиеся по площади в утренней тишине, принадлежали главному персонажу эпизода — оратору.
В «Шестой части мира» все, что было произнесено, принадлежало автору.
Поэту.
Или, правильнее, — лирическому герою его кинопоэмы.
В строе надписей прежних картин тоже всегда чувствовалось: слова пропущены автором через свое Я.
Но на этот раз автор все слова не только пропустил через свое Я, он их и высказал от своего Я.
Начиная с первого произнесенного в картине слова: «Вижу…» Поэт видел тяготы людей труда в странах капитала, показывал увиденное зрителю, делился с ним своими переживаниями.
Кадры сменяли друг друга, каждая надпись соотносилась со смыслом определенного изображения, и в то же время надписи входили в сцепление друг с другом, складываясь в поэтические строки белого стиха.
Стихотворная ритмика надписей, их поэтический лад вовлекали зрителя в лирическую стихию повествования.
Лиризм ленты, однако, не давал повода к парению в заоблачных далях.
Информацию поэзией Вертов заменил, но не отменил.
Поэзия потребовала емкого слова, от этого информационная насыщенность картины не уменьшилась, а возросла.
Лирические чувства, высокие эмоции рождались из документальных фактов.
Их видел не только лирический герой, но и зритель.
Один из таких зрителей, участвуя в обсуждении фильма на страницах «Комсомольской правды», писал: после нескольких минут просмотра авторское «вижу» он повторял про себя уже как свое — я сам вижу.
Но зрителей и поэта сближала не столько общность зрения, сколько общность чувства.
Переходя к рассказу о шестой части мира, о складывающейся повой жизни, не похожей на ту, которой живет остальной мир, Вертов постарался прежде всего обнажить это чувство. Поднять, может быть, еще не для всех ясные, подспудные ощущения на высоту до конца осознанных эмоций.
Он перебрасывал зрителя из края в край огромной страны. Кадры были разными, потому что разными были люди, их труд, быт, среда, окружающая природа.
А надписи строились одинаково.
Надписи с одинаково повторяющимся началом («Вы…», «Ты…»), казалось, должны были утомить зрителя однообразием.
Но Вертов действовал в согласии с точными композиционными расчетами.
Форма словесных повторов соединялась с неповторимостью зрительной: то стужа тундры, то жара Кавказа, то виноград, то оленье мясо, то младенец, сосущий грудь, то столетний старец — в монтаже Вертов неукоснительно придерживался резких зрительных смен.
Но расчет был и на другое — на множественность словесных повторений, на их неторопливое, длительное накопление.
Долгие повторы утомляют, а сверхдолгие, когда зритель начинает понимать, что это неспроста, наоборот, постепенно возбуждают интерес: что бы это значило?..
Тем более что Вертов этот интерес усиливал, все больше увеличивая размеры слов «ВЫ», «ТЫ», акцентируя на них внимание публики и как бы подтверждая: да, неспроста!
А когда интерес достигал наконец своего пика, то он находил возможность поднять его еще выше.
Вслед за словами «И ты, стирающая ногами белье» (на экране женщина на берегу горной реки барабанила пятками по мокрому белью — таков был древний способ стирки) шла надпись: «И вы, сидящие в этом зале».
В длинную цепь повторов Вертов включал зрительный зал. Объединял сидящих в нем с теми, кто был на экране.
Со всей страной.
А потом уже поэт объяснял, что всем этим хотел сказать.























