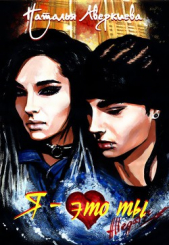Агнесса
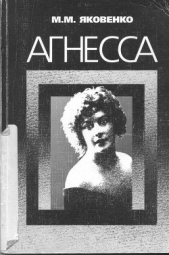
Агнесса читать книгу онлайн
Устные рассказы Агнессы Ивановны Мироновой-Король о ее юности, о перипетиях трех ее замужеств, об огромной любви к высокопоставленному чекисту ежовских времен С.Н.Миронову, о своих посещениях кремлевских приемов и о рабском прозябании в тюрьмах и лагерях, — о жизни, прожитой на качелях советской истории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потом из лагеря он писал мне длинные прекрасные письма [9], я вам читала, помните, когда мы только с вами познакомились? Читала отрывки из них. Правда, может быть, именно любовные места не читала… И вот в одном письме он пишет… Но лучше я вам прочитаю письмо. Сейчас найду… Вот, слушайте.
«Первый раз я тебя увидел, помнишь, в гостинице в Москве. Ты не произвела на меня впечатления: что-то красивое, приятное, но не запоминающееся. Потом я с тобой встретился у тебя дома в Днепропетровске. Я танцевал с тобой. Ты мне понравилась, но это… было как казенные суммы: там ни одной копейки нет моей, я должен хранить эту сумму, и только. В 1938 году ты была у нас в Краскове, я проводил тебя к электричке. Мы с тобой много говорили… На этот раз ты меня привлекла не своим красивым лицом и фигурой, а другим. Ты показалась мне очень интересной, привлекательной. Я неохотно расстался с тобой. Возвращаясь на дачу, я думал о тебе, и мне было грустно. Ты задела во мне различные чувства, но — ты запретна, ты — табу. И когда я тебя встречал после этого, я бывал с тобой любезен, но табу помнил. В 1939 году мы встретились с тобой в больнице у Фени, вместе возвращались домой. Я предложил пойти пешком, ты с какой-то радостью согласилась. Я с тобой болтал, старался быть интересным собеседником, и это как будто мне удавалось. Я видел, что ты довольна и держишься со мной как с хорошим другом. Но табу оставалось.
И только первый раз было нарушено табу, когда я тебя усаживал в трамвай. Я чуть-чуть задержал свои руки на твоей талии. Ты это почувствовала и обернулась ко мне. В глазах у тебя было: да, можно.
Я был смущен. Но табу должно остаться, нельзя.
И лишь через несколько месяцев, когда между нами стояли брат и сестра, дорогие нам, но уже не существующие, я в первый раз осторожно целовал твои волосы, не снимая табу. Я искренне тебя успокаивал, целовал твое лицо, мокрое от слез, остро чувствовал твое горе.
Когда я на следующий день пришел к тебе, ты меня радостно встретила, подошла ко мне и поцеловала с такой непринужденностью, что я понял твою близость. Этот поцелуй и был нашим бракосочетанием. Ты стала моей женой».
Его любовь ко мне была такой красивой! Помню, мы как-то ехали вместе в метро и вдруг, нагнувшись к моему уху, он стал шептать мне прекрасные слова.
«Две тысячи лет назад, — шептал он мне, — я, житель Афин, проходил как-то через оливковые рощи цветущего Пелопоннеса. Впереди меня синело теплое Средиземное море, а оливы цвели, и сладкий дурманящий их запах пьянил меня. А я был философ, я старался не давать власти над собой прелестям жизни, быть выше этого, всюду видеть сущность, глубокий смысл, а не внешность. И я думал: вот мир прекрасен, но это лишь соблазн. Оливы отцветут, отплодоносят, поблекнут, а потом и они исчезнут. А еще раньше того исчезну я. Надо ли привязываться к столь скоротечной жизни?
Но вот, выйдя из оливковой рощи, я попал в зеленый виноградник и увидел прекрасную эллинку, которая ухаживала за лозами. Я подошел к ней, она подняла на меня глаза, взоры наши встретились, и вдруг я понял, что вся моя философия — ничто, все мои размышления и выкладки гроша ломаного не стоят и что только и есть на свете важного — она и я. И пусть любовь наша будет лишь коротким мигом в вечности, но в ней одной смысл всей жизни…
Так, еще две тысячи лет назад твоя античная красота победила меня».
Мы стали мужем и женой. Если с Сережей мы были веселыми товарищами — ребячились, дурачились, как дети, то к Михаилу Давыдовичу отношение у меня было другое. Он был на тринадцать лет старше меня, но не в этом было дело, а в его авторитете и уме. Он был для меня как любимый отец, учитель, я глубоко уважала его и почитала за его знания, за его таланты, за его мудрость.
А он любил меня пылко, как юноша.
Он ревновал к прошлому. Его привязанность к Мироше сменилась бессознательной неприязнью. Однажды я нашла его письмо, адресованное Сереже на тот случай, если Сережа все-таки уцелел и еще вернется. В душе он не смел желать ему смерти, но возвращение Мироши было бы смертью для счастья самого Михаила Давыдовича.
Он писал Сереже, объясняя ему, почему он на мне женился. Он писал, что я была беспомощна и несчастна и что издавна существует у евреев обычай, закон, когда живой брат берет на себя заботу о семье умершего, женится на его вдове. Михаил Давыдович, мол, и последовал этому обычаю. Он объяснял, а не оправдывался. Тон письма был сухой, недружелюбный. При всех его удивительных качествах Михаил Давыдович не мог скрыть того мужского эгоизма, который им, мужчинам, присущ. Все они собственники. «Это мое!» — говорят они. Сережа теперь уже был ему не близким двоюродным братом, а только соперником.
Мы стали мужем и женой, никому не говоря об этом. Мы продолжали жить врозь, только часто ходили друг к другу. Это потому, что у меня была Агуля, не забывшая Мирошу, а у него — дочери-девушки, которые могли болезненно принять его «измену» матери, они могли ревновать. И ревновали.
Агнесса говорила вам, что папа любил Мирошу? Но несмотря на родственные чувства, частенько случалось папе резко осуждать его. Например, за картежную игру. Был даже такой случай, когда дядя Мироша пригласил нас всей семьей на лето к себе в Днепропетровск и мы с мамой поехали, а папа — нет.
Папу коробила та среда, в которой вращался Мироша.
Дядя Мироша был талантливый человек, у него был военный дар. Меньше чем за год он в царской армии поднялся от солдата до поручика. И в Красной Армии быстро пошел в гору. Если бы он остался в армии и дожил до войны, он, возможно, стал бы маршалом. Впрочем, могли еще до того расстрелять, как Тухачевского. Наверное, то, что он стал чекистом, продлило ему жизнь на несколько лет.
А я дядю Мирошу хорошо помню. Какой он был красивый! Я, бывало, глаз не могла отвести от него, говорила ему с восхищением:
— Дядя Мироша, какой вы красивый!
А он мне в ответ:
— Возьми мою красоту, отдай мне свои тринадцать лет.
Вот папа пишет, что давно любил Агнессу. Но я помню, когда она приходила к нам на дачу в Красково… Дядя Мироша не ходил, опасался. А тетя Ага — чуть не каждый день. Они с Мироновым жили недалеко, в Томилине, и она могла приходить пешком и часто приходила, нарядная, откровенно демонстрируя свое великолепное тело. Яркие крепдешиновые сарафанчики в обтяжку, грудь приоткрыта, ноги из-под длинной по моде тех времен юбки на высоченных каблуках. Умеренная косметика. Прибежит, бывало, оживленная, веселая, разговорчивая. Мама встречала ее — сама доброта. А отец, помню, посмеивался, называл барынькой, бездельницей, и нам казалось, что он как-то неодобрительно относится к этим визитам.
Они часто виделись после маминой смерти, я не придавала этому значения. Только отзывы папы об Агнессе изменились. Теперь он говорил:
— Это такая труженица! И такая красавица, как мама!
Он даже находил внешнее сходство с мамой.
Но вот соседки по дому стали нашептывать, встречая меня:
— Бедные, бедные сиротки, — качали головами, — еще тело матери не успело остыть…
«Что это они?» — недоумевала я.
Или еще прямее:
— Плохо, плохо вам будет с мачехой!
— Какая мачеха?
— Ты что, не видишь? Тетя эта ваша, которая все приходит…
Я смотрела на них с недоумением. Я не вмещала такой нелепости — тетя Ага и папа? Что за чепуха?
Но вот 22 июня. Двенадцать часов дня. Взволнованная речь Молотова по радио… война!
Папа тотчас пошел в военкомат. Ему было больше пятидесяти лет, но он доказывал, что здоровье у него отличное и что, имея опыт первой мировой войны, он может стать очень полезным на фронте. Ему отказали. Он ходил повторно, ему опять отказали. Вероятно, из-за той тени подозрения, которая в те времена ложилась на всех побывавших за границей.
В первые дни войны я однажды открыла ящик письменного стола — мне нужны были какие-то документы — и вдруг наткнулась на брачное свидетельство… с Агнессой Ивановной Мироновой! Я глазам своим не поверила. Пришла Бруша, я ей говорю:
— Ты это видела?
А она только улыбнулась:
— Я давно знаю.
Вот такая она была, как мама, — сама доброта, все человеческое понимала и прощала.
А может быть, еще и потому она отнеслась так, что собиралась замуж за Борю и вся была уже в новой своей жизни, а от нашей семьи отошла…
Отец еще раньше положил на книжку Агнессы двадцать тысяч, а нам с Брушей — по пяти тысяч. И еще «золотой заем» — тете Аге в руки.
Его материальное благополучие… Может быть, и оно оказало влияние на ее выбор. Она ведь была женщина, которая умела устраиваться.
Бруша расписалась с Борей, но не решалась сказать папе. Она иногда задерживалась у Беркенгеймов (в семье Бори), оставалась там ночевать, понемногу переносила туда то одну, то другую вещь… Но как сказать папе? Я посоветовала ей: «А ты не говори, что вы уже расписались, ты скажи: йХотим расписатьсяк. Или еще лучше — попроси разрешения…»
Но Бруша ответила: «Я не умею врать».
И объяснение состоялось.
Бруша мне потом рассказывала его начало. Когда она сказала папе, его лицо застыло и он проговорил холодно:
— Не вижу необходимости высказывать свое мнение. Я не имею к этому никакого отношения, я человек посторонний…
Я уже вам говорила, что он был очень ревнив.
О чем они говорили дальше, я так и не узнала. Только просидели они, закрывшись в папиной комнате, часа полтора, а вышли оттуда оба заплаканные и умиротворенные…
В те времена никаких свадеб не устраивали. К тому же шла война, враг захватывал у нас город за городом. Бруша и Боря готовились к эвакуации, они должны были ехать с военным заводом, где Боря, окончив институт, работал и где имел бронь. Уезжала вся семья. Бруша и Боря в Новосибирск, родители Бори (отец его был известный ученый-химик) — в Молотов. Было не до свадьбы!
Но как только Агнесса узнала о Брушином браке, ей загорелось — свадьбу, обязательно свадьбу! А у нас в доме все уже делалось так, как хотела Агнесса.
Свадьбу устроили в нашей большой квартире. Впрочем, она была уже не такая большая. После маминой смерти одну комнату у нас забрали, туда подселили жильцов, и мы оказались в коммуналке.
Но как Агнесса сервировала стол! Какая была посуда, салфетки, скатерть, фужеры! Агнесса где-то достала даже свежих роз и засыпала ими стол. Вероятно, ей хотелось праздника, увести себя и нас от совершающегося, еще раз блеснуть, как в Мирошины времена, глотнуть того воздуха…
Молодым она торжественно подарила одеяло из верблюжьей шерсти, привезенное еще из Монголии.
И сама она была в парчовом блистательном платье, с открытой шеей и плечами, как она любила, и с обнаженными руками. Борин отец — Борис Моисеевич Беркенгейм — стал целовать пальчики, а затем выше, выше, обцеловывая в упоении ее прекрасные белые руки… Опомнясь под взглядом жены, он потом говорил ей дома об Агнессе: «Омерзительная баба!»
Ох, не так ли говорил и папа, когда называл маме Агнессу барынькой?
Бруша была заполнена своей жизнью молодой жены, а я… Для меня папин брак был несчастьем, горем…