Без выбора: Автобиографическое повествование (с илл.)
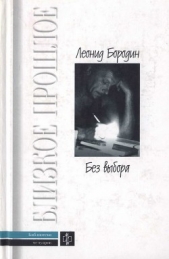
Без выбора: Автобиографическое повествование (с илл.) читать книгу онлайн
Автобиографическое повествование Леонида Ивановича Бородина «Без выбора» можно назвать остросюжетным, поскольку сама жизнь автора — остросюжетна. Ныне известный писатель, лауреат премии А. И. Солженицына, главный редактор журнала «Москва», Л. И. Бородин добывал свою истину как человек поступка не в кабинетной тиши, не в карьеристском азарте, а в лагерях, где отсидел два долгих срока за свои убеждения. И потому в книге не только воспоминания о жестоких перипетиях своей личной судьбы, но и напряженные размышления о судьбе России, пережившей в XX веке ряд искусов, предательств, отречений, острая полемика о причинах драматического состояния страны сегодня с известными писателями, политиками, деятелями культуры — тот круг тем, которые не могут не волновать каждого мыслящего человека.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Невозможно было построить коммунизм в отдельно взятой колонии.
Другое дело — в отдельно взятой стране! Которую не жалко. Отсталая… Тюрьма народов… Жандарм Европы… Цари — выродки… Народ — рабы… Сверху донизу — все рабы… Зато тут оно и есть — слабое звено в капиталистической цепи. Рванем, братцы!
Идея превыше всего. Долой классы, враждебные идее! Долой классы, негодные для идеи! Немного погодя — долой фанатиков идеи, не улавливающих диалектических нюансов становления идеи.
Но прежде прочего строим базис для торжества идеи, для защиты ее от враждебного окружения.
Базис и социальные достижения Страны Советов… Золото — зэки, уголь — зэки, металлы для «оборонки» — зэки… Норильск, к примеру. Вряд ли кто представляет, чем был Норильск для военной промышленности. Какая-нибудь Болгария или Монголия были бы процветающими, подобно Эмиратам, странами, имей они свой Норильск. Заполярье. Мороз, метели… Двадцать лет сотни тысяч зэков, то есть рабов, вгрызались в кладовые вечной мерзлоты от Архангельска до Чукотки…
А еще — Караганда, Тайшет, Пермь… Сталинградская ГЭС — зэки. Куйбышевская ГЭС — зэки, Волго-Дон — зэки. Даже знаменитый Московский университет — даже там — зэки.
Да пусть мне назовут хотя бы один производственно-промышленный регион той самой одной шестой части суши, где бы зэки не были трудовым резервом… А то и ударным отрядом…
Исторический материализм (истмат) объяснял: падение рабовладельческих государств Древнего мира обусловлено непроизводительностью рабского труда…
Для начала неплохо было бы объяснить, что есть собственно свободный труд, с каковым сравнивается рабский. Колхозник, положим, не имеющий паспорта и права выхода из колхоза, — это свободный работник?..
Но, в конце концов, какое из мировых государств достигло процветания без предварительных жертв? Америка? Франция? Англия?
Наша трагедия, во-первых, в том, что мы пошли на жертвы, когда во всем остальном мире они уже были «не модны». А во-вторых, не успели мы «отжертвоваться», как тут же снова и рухнули в пропасть. Снова у разбитого корыта, и напраслина жертвы вопиет… И просится на дубль… Потому что жертва не осознана.
На одном из политических процессов 1970-х случился примечательный эпизод, по поводу которого можно было бы и этакий поучительный трактатик накатать…
Обвинитель задает вопрос свидетелю обвинения: «Давал ли вам такой-то для прочтения книгу Солженицына „Архипелаг ГУЛАГ“?».
«Давал», — отвечает свидетель. «И вы ее прочли?» — «Прочел». — «И как вы считаете, там правда написана или это клевета на советский государственный и общественный строй?» — «Конечно, клевета». Тут бы обвинителю и остановиться — факт пропаганды подтвержден, чего еще, казалось бы. Но возжелал прокурор продлить «час торжества своего». «И последний вопрос: почему вы считаете эту книгу клеветой?» Свидетель хмурится, напрягаясь, отвечает, оглядываясь по сторонам: «Ну, если это правда, тогда как жить?.. Тогда жить… невозможно…»
Свидетель был не прав. Возможным оказалось не только жить и делать вид, что не слышишь многомиллионного стона рабского стада, не видишь чуть ли не ежедневных эшелонов с решетками и не знаешь, куда подевались твои соседи по этажу и подъезду. Возможным оказалось моральное, подчеркиваю, именно моральное, а не историческое, что еще бы куда ни шло — моральное оправдание жертвы социалистического построения, и оправдание это сформулировано не кем-нибудь, но интеллектуалами постсоветских времен. Правда о великой трагедии в первую очередь именно русского народа отдана на откуп и, соответственно, на извращенное потребление кому угодно… Трагедия сведена к фарсу…
«Двадцать миллионов положили, шестьдесят миллионов, сто миллионов», — выкрикивают одни, кому народная беда обернулась аргументом-приемчиком для санкционирования хаоса.
«А вот и неправда ваша! — возражают другие, деловито пересчитав трупы. — Всего лишь каких-то два миллиона! А сколько из них обычных уголовников. Зато каковы достижения!»
Равнозначно корыстное отношение. Одним надо оправдать криминальный капитализм, другим — криминальный социализм. Обе позиции откровенно утробны, но у первой отнюдь не формальное преимущество на общем фоне «гуманизации» эпохи.
Так вот и случилось, что некоторая звучная часть русского патриотического голоса сама загнала себя в маргинальное пространство именно по причине того самого идеологического бессердечия, каковое столетия было чуждо русскому национальному сознанию и лишь в последние десятилетия социалистического бытия сформировалось в эталон «советскости» как таковой.
В сущности, русский патриотизм первых лет «перестройки», выявив исключительно верную интуицию относительно грядущего государственного развала, именно в государственном смысле оказался решительно безыдейным, поскольку все его позитивные ориентиры оказались как бы за спиной, а идти в бой с вывернутой шеей — дело заведомо проигрышное. Проигрышное не только перед лицом непосредственного противника, но и в глазах потенциального союзника — народа.
Каждому человеку своя жизнь видится исключительной. И это справедливо, ибо не бывает одинаковых жизней и судеб.
Исключительность своей судьбы я вычислил давно. Точнее, давно догадывался, в чем она состоит. Однако более-менее отчетливо сформулировал много позднее. Смысл моего открытия про самого себя заключался в следующем: жизнь ни разу не предоставила мне возможность волевого личного выбора.
Не было! Все, что случалось, случалось по стечению обстоятельств. Личный выбор, как я понимаю, предполагает наличие равных по возможности реализации альтернатив. Возможность реализации в данном случае, разумеется, следует понимать как сугубо субъективное представление самого человека, оказавшегося перед необходимостью выбора.
Итак, два обязательных условия: субъективно понимаемая равновозможность выбора и его необходимость. Сказал бы даже — неизбежность.
Так вот, ничего подобного я в своей жизни припомнить не могу. Все свершалось в силу сложившихся обстоятельств.
И в этом смысле жизнь моя прошла легко и безответственно. К примеру, многочисленные и некраткосрочные пребывания в лагерях и тюрьмах являлись возмездием не за принятые решения или поступки, а за непреодолимые обстоятельства, продиктовавшие те или иные решения и поступки. Потому и «возмездия» всегда понимались как неизбежные следствия обстоятельств, каковые я не имел права игнорировать. И если порой вскипал злобой или прочими недобрыми чувствами к некоему адресату, будь то человек, ведомство или даже государство, как виновнику своих неприятностей, то после непременно сожалел и стыдился как слабости…
Разумеется, речь идет о важнейших событиях в жизни, поддающихся несложному пересчету, а не о том, скушать ли на обед гречку с биточками или пюре с котлеткой. Потому бездейственные раскаяния-терзания также оказались вне моего жизненного опыта, что отнюдь не означает, будто не приходилось искупать, то есть одними поступками искупать-исправлять другие, насколько это вообще бывало возможно. Чаще, к сожалению — невозможно. Допустимо ли искупление убийцы? Мертвого не воскресишь… Но и намного менее значимые неверные действия зачастую оказываются непоправимыми и неисправимыми, и если у человека нет должного религиозного опыта, обречен он на пожизненную муку, тем более тяжкую, чем непреодолимее были обстоятельства, при которых принимались ошибочные решения. А вовсе не наоборот — когда человек осознанно и независимо от обстоятельств совершает дурной выбор.
Любой внимательно прочитавший вышеизложенные соображения без труда подметит очевидные противоречия в тексте. Что ж, я их тоже вижу… И да будут они списаны на то самое — на недостаток религиозного опыта, единственно способного «по-гегелевски снимать» подобные противоречия. Действенность религиозного покаяния и отпущения грехов уму моему известна и будто бы понятна… Но — увы! — этого недостаточно…
И не стал бы я упражняться в самоанализе, если бы обстоятельства, определившие главные вехи моей жизни, самым причудливым образом не были бы связаны-повязаны с важнейшим феноменом всей советской жизни-действительности, с ведомством, контролировавшим идейное состояние общества в течение всего времени его исторически недолгого существования.


























