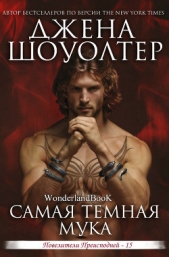Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820
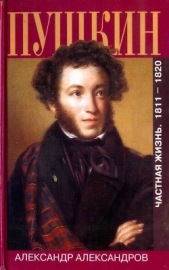
Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820 читать книгу онлайн
В этой книге все, поэзия в том числе, рассматривается через призму частной жизни Пушкина и всей нашей истории; при этом автор отвергает заскорузлые схемы официального пушкиноведения и в то же время максимально придерживается исторических реалий. Касаться только духовных проблем бытия — всегда было в традициях русской литературы, а плоть, такая же первичная составляющая человеческой природы, только подразумевалась.
В этой книге очень много плотского — никогда прежде не был столь подробно описан сильнейший эротизм Пушкина, мощнейший двигатель его поэтического дарования. У частной жизни свой язык, своя лексика (ее обычно считают нецензурной); автор не побоялся ввести ее в литературное повествование.
А. Л. Александров — известный сценарист, театральный драматург и кинорежиссер. За фильм «Сто дней после детства» он удостоен Государственной премии СССР.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я четыре года, — взволновался Комовский, — был в таком училище и видел всякого рода детей, я только хотел предупредить вас о пропасти, в которую можно пасть… Я видел, как к вам пристает и Пущин, он говорил вам о вашей красоте…
— Оставьте меня, — еще раз оборвал его Корф и закричал: — Коли его! Коли!
Слезы выступили на глазах у Комовского, но уже не слезы умиления, а горечи и обиды, тем более обидной, что незаслуженной. В одно мгновение рухнула дружба, участь его была решена. Он ринулся вон из гимнастического зала. За его спиной слышались крики возбужденных воспитанников и удары ног по деревянному полу.
Комовский вбежал в свой 35-й номер и упал с рыданиями на кровать. Как объяснить ему, своему другу Модесту, что перед ним развратники, что гореть им в геенне огненной, и первыми туда попадут два приятеля, Пушкин и Пущин. Ему особенно было неприятно внимание Пущина к Модесту. Стоило ему вспомнить, как Пущин в бане, поигрывая яйцами, показывал Модиньке свой предмет, как краска заливала его лицо. Да и Егоза Пушкин был ненамного лучше, со своими стихами матерного содержания, которые он читал на каждом шагу. Иногда Лисичке приходило в голову доложить инспектору об этих стихах, но Пушкин был хитер, все стихи держал в голове и другим запретил делать копии. Саша Горчаков любил хвастать, что единственную копию «Тени Баркова», которую переписал своим отчетливым почерком Костя Данзас, он на глазах остальных сжег. Горчаков всегда проявлял себя дипломатически. Этим он защитил не только Пушкина, но и всех других, в том числе и себя, от неприятностей.
Немного успокоившись, Комовский встал и опустился на колени перед образом Богородицы, висевшим в его комнате. Это была икона, которой его благословила родная матушка и к которой он всегда обращался в трудные минуты.
— Я спасу его, — прошептал он жарко. — Ценою любой жертвы я спасу его от гнусных людей, которые всеми силами пытаются развратить его. — Он перекрестился истово и обратился уже к Богородице, взирая на ее иконописный лик: — Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.
Слезы умиления от молитвы, вознесенной к Богоматери, текли по его лицу. Ему стало легче. Он знал много молитв, но эта была одной из его любимых, всегда приносившая облегчение.
Глава двадцать пятая,
в которой господа лицейские прощаются с гувернером Иконниковым, изгнанным из Лицея, граф Ростопчин сжигает свое имение Вороново, а воспитанник Есаков рыдает на груди гувернера Ильи Степановича Пилецкого. — Зима 1812 года.
Начиналась зима, морозы ударили как-то вдруг, без долгой и муторной осенней подготовки. Желтые листья с деревьев, не успевшие попадать в короткую осень, теперь продолжали еще осыпаться на снег. Возле саней, а санный путь стал в этом году небывало рано, топтался мужик в тулупе и с кнутом за поясом. В санях уже лежал большой деревянный чемодан изгнанного из Лицея гувернера Иконникова.
Воспитанники Дельвиг, Пушкин, Пущин, Илличевский, Кюхельбекер, Малиновский прощались с любимым гувернером. Провожал его и старший друг Сергей Гаврилович Чириков, кутавшийся в длинную шубу, крытую бархатом, но старую, с кое-где уже повылезшим мехом на воротнике. Казалось, что шуба досталась ему от кого-то по наследству.
Пушкин прыгал на месте: был он раздет, в одном мундирчике.
— Шли бы вы домой, Александр Сергеевич, — предложил ему Чириков. — Не ровен час схватите простуду.
— А мне сказывали, что государь на Иордани всегда бывает в одном мундире. До Иордани вон еще сколько времени. Надобно закаляться, — отвечал, подпрыгивая, бойкий подросток.
— Нынче зима ранняя… Студеная! — возразил ему Чириков.
— Ну, что ж, господа, не поминайте лихом, я буду вам писать. Давайте, по русскому обычаю, поцелуемся, — предложил Иконников и бросился обнимать каждого воспитанника, действительно целуя. При этом каждый мог почувствовать, что от него с утра уже попахивает зеленым вином. Искренние слезы навернулись у изгнанного гувернера на глазах. — Прощайте, друзья!
— Прощайте, Алексей Николаевич!
— Вы мне позволите, господа, участвовать в вашем журнале? Быть вашим корреспондентом? Я без вас, господа, буду чувствовать свою жизнь неполною! — Он несколько раз кряду всхлипнул. — Как мне грустно, господа! Вы меня не забудете?
— Полноте, Алексей Николаевич! — с укоризной сказал ему Большой Жанно и даже похлопал панибратски по плечу.
— Мы будем вас помнить! Приходите к нам, приезжайте… Вам никто не может запретить в дни, положенные для посещений. Наконец, пишите — сие никому не возбраняется.
— Э-эх! — отчаянно махнул рукой Иконников и полез в сани.
Мужик стал закрывать полость.
— Бегите, господа! Бегите! — сказал Иконников.
И они побежали, а сани двинулись по Садовой, потом свернули на Петербургскую дорогу.
Воспитанники наперегонки бежали к дверям Лицея. На крыльце стоял Илья Степанович Пилецкий, который при их приближении скрылся.
— Пошел докладывать братцу, кто провожал Алексея Николаевича! — усмехнулся барон Дельвиг.
Вслед за воспитанниками мелкими шажками в своей длинной шубе семенил по дорожке к Лицею Сергей Гаврилович.
— Господа, подождите! — догнал он их. — Я давно хотел поговорить с вами. Здесь удобно, нету стен, а стало быть, и лишних ушей. — Он развел руками. — Мне, понимаете, хотелось сказать вам конфиденциально. Вы замышляете заговор против господина инспектора… Только ничего не говорите! Я знаю! — замахал он руками, опасаясь услышать возражения. — Сразу должен вас предупредить — не стоит, господа! Он примет меры, и зачинщики будут наказаны, вплоть до увольнения из Лицея. Вам, господа, на всю жизнь пятно останется. Ни в службу, ни в гвардию не возьмут. Карьера рухнет. Вы еще малоопытны, послушайте меня, старика. Я добра вам желаю и люблю вас, поверьте, как детей своих…
— Кто сказал? — вскричал Кюхля, выпучив глаза, что было у него признаком чрезвычайного волнения.
— Успокойся, Кюхля, — попросил его Жанно.
— Это мог быть кто угодно, — сказал Пушкин весьма равнодушно. — Но это ничего не меняет.
— Как это, кто угодно? — волновался Кюхля. — Ты не понимаешь, это непременно надо выяснить. Если среди нас есть человек, который может так поступить, мы должны поставить своей целью его выявить.
— Это вполне можешь быть и ты, Кюхля, — усмехнулся Жанно. — Поэтому не надо так много эмоций!
— Что ты сказал? — возопил Кюхля. — Что ты сказал? Ты, который считался моим другом?! Как мог у тебя язык повернуться? Да я… Я… — Он не нашелся, что ответить, и бросился наутек, уже не сдерживая слез.
— Зря вы ссоритесь, господа, — покачал головой Сергей Гаврилович. — Зря…
— Я знаю, откуда ветер дует, — сказал Ваня Малиновский.
Знали, откуда дует ветер и в подмосковной графа Ростопчина Вороново. Истинным автором спектакля о нашествии Наполеона, из-за которого пострадал Иконников, был именно он, в свете всегда блистательно говоривший только по-французски, а с русскими мужиками на их природном языке; и теперь он ставил последний (героический) акт этого действа. Присутствовали иностранные гости — генерал Вильсон, свита и ростопчинская челядь. Все же крестьяне, в числе тысячи семисот двадцати человек, накануне отпросились у Ростопчина оставить свои дома, кости предков и пожитки, дабы уйти от неприятеля в другие имения графа в глубине России. И ушли.
Вильсон в своем красном мундире сидел на французской лошади, накануне присланной ему в подарок Милорадовичем, трогал кавказский кинжал в ножнах покойника Багратиона и смотрел на действия Ростопчина, преисполненные поистине римского величия. В доме остались мебели, люстры, библиотека, собранная графом за многие годы. Прекрасная, а Вильсон знал в этом толк, бронза, фарфор, итальянская керамика, которой он вчера восторгался, запасы вин в погребах, посуда в поставцах, всего не перечислишь. Вильсон считал про себя, что имущества в доме не менее чем на сто тысяч фунтов, и сама мысль о том, что должно сейчас произойти по замыслу графа, приводила его в священное содрогание.