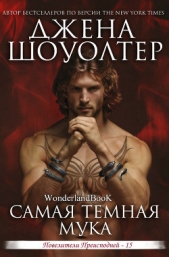Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820
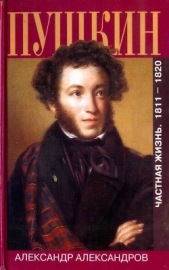
Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820 читать книгу онлайн
В этой книге все, поэзия в том числе, рассматривается через призму частной жизни Пушкина и всей нашей истории; при этом автор отвергает заскорузлые схемы официального пушкиноведения и в то же время максимально придерживается исторических реалий. Касаться только духовных проблем бытия — всегда было в традициях русской литературы, а плоть, такая же первичная составляющая человеческой природы, только подразумевалась.
В этой книге очень много плотского — никогда прежде не был столь подробно описан сильнейший эротизм Пушкина, мощнейший двигатель его поэтического дарования. У частной жизни свой язык, своя лексика (ее обычно считают нецензурной); автор не побоялся ввести ее в литературное повествование.
А. Л. Александров — известный сценарист, театральный драматург и кинорежиссер. За фильм «Сто дней после детства» он удостоен Государственной премии СССР.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Пушкин! — крикнул Гурьев. — Прощай!
Глава двадцать седьмая,
в которой император Александр I едет в Вильну к армии. — Казачий бивак. — Итальянский тенор Торкинио. — 7–10 декабря 1812 года.
Седьмого декабря, помолившись накануне вечером в Казанском соборе, в девять часов утра император в открытых санях, четверней, выехал в действующую армию. Вез его, как всегда, любимый лейб-кучер Илья Байков, бывший с Александром Павловичем уже лет десять. Накануне Илья подрался с императрицыным кучером, за что был посажен на главную гауптвахту, но Александру уже к вечеру пришлось освободить его, поскольку без него он не ездил. Илья сам всегда сидел на козлах, не пуская почтового ямщика, как было положено, — тот на станциях только запрягал лошадей. Илья никогда и никому не доверял везти государя.
В этом же санном поезде вместе с ним ехали сопровождавшие его обер-гофмаршал граф Толстой, граф Аракчеев, государственный секретарь Шишков, близкий друг государя генерал-адъютант князь Волконский, статс-секретарь граф Нессельроде, почти заменивший при государе Румянцева, который не был в отставке, но и не был при деле. Этот Нессельроде возник и выдвинулся не так давно и, как многие считали, благодаря случайности: он был простым статс-секретарем, сопровождал посла Куракина в Париже, а, вернувшись в Петербург при объявлении войны, неожиданно попал в фавор. Канцлер занимал свою должность только для виду. Государь работал с князем Гагариным, но молодой человек, которого государь очень любил, завел роман с Марией Антоновной Нарышкиной, что заподозрил государь при своем приезде из армии. Сославшись на здоровье, князь вышел в отставку. Тут нужные люди и подсунули государю Нессельроде, о способностях которого государь уже был наслышан, предварительно женив его на дочери министра финансов графа Гурьева и введя в определенный круг, — так сильные покровители доставили ему значительное место: начальника Походной дипломатической канцелярии. Никто не знал, даже канцлер Румянцев и сам посол Куракин, что в Париже этот незначительный дипломат уже играл значительную роль — через него шла секретная переписка с кузеном Анри, доставлявшим императору Александру сведения о Наполеоне и важнейших делах в государстве. «Кузен Анри» была кличка агента, под которой скрывался не кто иной, как сам Талейран, князь Беневентский.
Добирались они до Вильно трое суток, и почти во все время государь не выходил из открытых саней, что было удивительно при тогдашней стуже. Он лежал, завернувшись в огромный мужицкий тулуп и укрывшись медвежьей полостью. Государь не знал, что при подъезде к Вильне для его санного поезда проложили особую объездную дорогу, чтобы вид тысяч и тысяч трупов и голодной полузамороженной нелюди, еще пытающейся ползти по обочинам на основной дороге, не расстроил его чувствительное сердце. В одном месте государева дорога все же выходила на основную, и, слава Богу, это случилось ночью, государь дремал и не видел.
Умирающий сброд, который раньше составлял великую армию Наполеона, стеная на двунадесять языцех, ковылял, плелся и полз в сторону Европы, отогреваясь у горевших придорожных харчевен.
Некоторые из последних сил складывали из закоченевших трупов, как из бревен, укрытия от мороза и ветра и умирали там, прижавшись друг к другу и пряча на груди награбленные драгоценности, захваченные еще по усадьбам в Москве и под Москвой, и, может быть, последнее, что они видели, была оскаленная смертная улыбка их бывшего товарища, смотревшего со стены на их тихий уход. Потом появлялись люди с пейсами, которых не пугали улыбки замороженных, и выковыривали из трупов ножами спрятанные драгоценности и деньги. Бродили они ночами, днем же евреи сами ходить не решались, а посылали на промысел своих Сарр с детьми, и те под видом помощи наклонялись над умиравшими, протягивающими к ним руки несчастными, добивая их каблуками и палками и забирая то, на что умиравшие рассчитывали как на последнюю гарантию выживания: все те же драгоценности, золото, деньги.
Государь дремал в дороге под медвежьей полостью, спрятавшись с головой в высокий воротник тулупа, и снилась ему Вильна, уютный зеленый городок, тот последний бал в Закретах, в двух верстах от города, где танцевал он с фрейлиной Софией Тизенгаузен бесконечный польский среди цветущих померанцевых деревьев, а у девушки были такие невинные и в то же время такие порочные глаза. Государь ехал к армии, а думал о фрейлине, которая осмелилась перед Наполеоном показать к нему, Александру, свое расположение. Он знал, что ее братья воевали против его войск, в наполеоновском лагере, что старший снарядил на свой счет небольшой кавалерийский отряд, что отец ее вошел во временное литовское правительство, но его грела и радовала мысль, что София одна среди виленских дам оказалась ему настолько преданна, и за это он готов был великодушно простить ее вероломных и недальновидных родственников.
Государь видел в ее поступке нечто большее, чем просто гордость полячки, он усматривал в этом что-то относящееся до него самого, не государя, а человека, и готов был биться об заклад с самим собой, что так оно и было. Он возвращался к армии, чтобы вновь взять на себя всю ответственность за события, и ему предстояли многие дела, включая и одно неприятное — вручить светлейшему князю Голенищеву-Кутузову, которому он перед отъездом в армию пожаловал титул светлейшего князя Смоленского, орден Георгия 1-й степени, высшей воинской награды в государстве, учрежденной Екатериной, которой были удостоены до князя, кроме самой учредительницы, всего восемь человек, и каких: Орлов-Чесменский, Румянцев-Задунайский, генералиссимус Суворов, граф Рымникский и князь Италийский, Потемкин… И вот теперь Кутузов-Смоленский, старик, проспавший всю кампанию, вравший своему государю напропалую (один Бог знает, чего Александру стоил хвастливый кутузовский бюллетень о победе, сменившийся известием о сдаче первопрестольной столицы), не сделавший ничего для поражения неприятеля и изгнания его из России, именно за это и должен получить Георгия 1-й степени, высший военный орден. Государь не вспоминал и не вдумывался в то, что Кутузов из всех кавалеров ордена Георгия Победоносца стал единственным полным кавалером и, стало быть, три степени, до теперешней первой, он за что-то ведь получил.
«Как это было в сатирических стишках на последние события: Кутузов проспал, Чичагов прозевал, Платов прибежал, Витгенштейн наблюдал. Француз околевал, мужик защищал, голод истреблял, холод доконал, — вспомнил государь поданные ему князем Волконским стихи, ходившие по Петербургу в списках».
Государь ежился даже под медвежьей полостью и, засыпая, падал во мрак, с омерзением думая об общественном мнении, в угоду которому он делает все время уступки перед своими убеждениями.
Темнело зимою очень рано, и как-то в темноте наехали они в поле на казачий бивак, кругом дороги полыхали костры, вокруг которых собрались причудливо разодетые люди. Сборище представляло собой странную картину: бородатые мужики с серьгами в одном ухе, наряженные в мундиры французских генералов с золотым и серебряным шитьем, под французскими батальонными и полковыми знаменами, с навершиями в виде бронзовых орлов, развалились вокруг костра, пили дорогие французские вина, о чем свидетельствовали бутылки, в большом количестве валявшиеся в снегу, и слушали закутанного в пеструю шаль итальянского тенора из отбитого у французов обоза. Жаркая итальянская мелодия лилась среди заснеженных полей. Голос у певца был очень высокий, почти женский.
Казаки, а это были они, повскакали со своих мест и, узнав, что перед ними император, разразились приветственными криками. Государь сделал вид, что не замечает маскарада, ведь и сам он был одет далеко не по форме, а обратился к певцу по-французски с вопросом, как того зовут и как ему довелось оказаться в столь бедственном положении.
— Торкинио, — отвечал красноносый итальянец. — Эти доблестные ребята подобрали меня на большой дороге и отогрели, — указал он на казаков и потрогал такую же, как у них, серьгу в ухе. — Я тоже теперь казак!