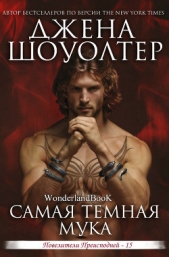Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820
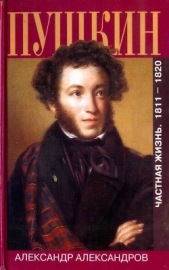
Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820 читать книгу онлайн
В этой книге все, поэзия в том числе, рассматривается через призму частной жизни Пушкина и всей нашей истории; при этом автор отвергает заскорузлые схемы официального пушкиноведения и в то же время максимально придерживается исторических реалий. Касаться только духовных проблем бытия — всегда было в традициях русской литературы, а плоть, такая же первичная составляющая человеческой природы, только подразумевалась.
В этой книге очень много плотского — никогда прежде не был столь подробно описан сильнейший эротизм Пушкина, мощнейший двигатель его поэтического дарования. У частной жизни свой язык, своя лексика (ее обычно считают нецензурной); автор не побоялся ввести ее в литературное повествование.
А. Л. Александров — известный сценарист, театральный драматург и кинорежиссер. За фильм «Сто дней после детства» он удостоен Государственной премии СССР.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Тебе сны снятся? — спросил он Гурьева срывающимся голосом.
— Бывает, — отвечал Гурьев. — Но я чаще всего не помню, про что, так, одни ощущения…
— А я помню, как еще помню. Мне женщины чаще снятся. Горничная Параша в Москве, я в девичьей ее голой видел, тело мраморное, белое, аж глаза зажмуришь от света.
— От какого света? — удивился Гурьев.
— От нее свет такой исходит. Я, бывает, пока не засну, все о ней думаю, а потом уже забываю и не могу понять, снится мне она или я о ней думаю. А потом и не она уже вовсе, а другие бабы, разные, то спиной ко мне повернутся, то на коленки станут… Можно с ума сойти.
— На коленки — это раком! — Корсаков хихикнул. — А чего ты мучаешься? — понимающе усмехнулся Гурьев. — Это полная ерунда. Я тебя научу, как избавиться от наваждения…
— Молиться? — искренне спросил Корсаков.
— Молиться?! — удивился Гурьев. — Мы же не монахи. Когда нас еще из Лицея выпустят. Девок тут нет. Надо самим обходиться… — Он зашевелился под одеялом, и Корсаков вздрогнул от прикосновения его прохладной руки.
— Ты чего, Костя? — спросил он срывающимся голосом.
— Тихо, Николенька. Ты же хочешь? Не пробовал еще? Ну дай хуй сюда, ну дай! Вот так, дрочи — не бойся… Хуй не отвалится! Токмо крепче будет. Приятно?..
Дядька Матвей проснулся и присел на диванчике, тупо покачиваясь из стороны в сторону. Приоткрыл он только один кривой свой глаз, но и тем ничего не видел. Резко мотнув головой, он хотел было встать, но вместо того снова рухнул лицом к спинке дивана, сморенный сном.
— Господа попердоват. Господи помилуй!
Он спал и не видел, как еще из одного номера в другой перебрался воспитанник. Воспитанники лицея часто бегали по ночам друг к другу. Заведение было закрытое, мужское, с плохо поставленной дисциплиной. А природа берет свое. Всегда и везде. Особенно в закрытых мужских заведениях. Кто из них первый начал, трудно было сказать, да они и сами того не знали. Доподлинно известно только, что Костю Гурьева развратил еще дома учитель француз, почти ежедневно удовлетворявший с ним свою страсть и так его распаливший, что жить теперь Костя без этого не мог и даже постоянно держал у себя под матрасом коробочку с вазелином, которая, впрочем, не всегда была и нужна. Получалось и без вазелина. Чаще Костя предлагал себя, и едва ли не каждый второй в лицее обнимался с ним ночами. Но Корсаков нравился ему особенно, он давно за ним ухаживал, с настойчивостью, которая вот-вот будет вознаграждена. Ему нравилась его не вполне сформировавшаяся фигура, почти чистый лобок, на котором только пробивались волосы, и мужское достоинство, которое еще нельзя было назвать вполне мужским.
Корсаков застонал и заплакал, уткнувшись в плечо Косте и целуя его. Костя простыней стал вытирать руку. Потом обнял и поцеловал Николеньку в губы.
Глава двадцать четвертая,
в которой надзиратель Липецкий отчитывает перед всеми Есакова, а Пушкин призывает воспитанников сделать обструкцию надзирателю. — Учитель фехтования Вальвиль. — Корсаков у лицейского доктора Пешеля. — Вредно ли рукоблудие? — Молитва Комовского к Богородице. — Зима 1812 года.
Лицеисты обедали в столовой. Посредине залы стоял Мартын Степанович Пилецкий с вечным скорбным лицом иезуита, рядом с ним — воспитанник Сеня Есаков.
— Господа воспитанники, вы все, разумеется, знаете о происшествии, случившемся с воспитанником Есаковым, — громогласно вещал Пилецкий. — Двадцать второго числа сего месяца он был обличен в том, что взял из комнаты воспитанника Пущина яблоко без его ведома. Господин Есаков весьма печалился об этом происшествии, в чем и высказал мне полное покаяние. Вчера господин Есаков от расстройства не обедал и не ужинал, сегодня, облегчив душу…
— Он может набить свое брюхо, — буркнул Пушкин себе под нос, но многие его услышали и рассмеялись.
— Вы что-то сказали, господин Пушкин? Что-то остроумное? Или мне послышалось? — взвился, хотя и проговорил как можно спокойней, надзиратель Пилецкий.
— Вам послышалось, — отвечал Пушкин.
— Э-э! — потянул Пилецкий, припоминая, на чем он остановился, но так и не вспомнив и мысленно выругав подлеца Пушкина, продолжил: — Я думаю, мы простим господина Есакова. Его проступок есть простительное детское легкомыслие, излишняя склонность к лакомству, но будем помнить, что с маленьких проступков начинаются большие несчастья.
Пилецкий закончил и обратился к Есакову:
— Садитесь, господин Есаков, за общий стол в самом конце. Думаю, что скоро вы займете место много выше, среди самых достойных воспитанников.
Еще раз окинув начальственным взором обедающих воспитанников, Пилецкий вышел из столовой, прямой, надменный, с негнущейся спиной, знаком вызвав за собой дежурного гувернера Фотия Петровича Калинича. Тот вышел с недовольной миной на глупой морде, по своему обыкновению презрительно ухмыляясь.
— Блажен муж, иже сидит к каше ближе! — экспромтом сказал Саша Пушкин.
Действительно, по установленному порядку, ближе к раздаче каши сидели лицеисты примерного поведения: Модинька Корф, любимец начальства, князь Горчаков, мальчик настолько независимый, что мог себе позволить быть примерным, хотя никогда себе такой цели и не ставил, еще некоторые, впрочем, настолько стертые серые личности, что и упоминать о них не стоило. На нижнем конце стола сосредоточились возмутители спокойствия: Егоза Пушкин, взрывная смесь обезьяны с тигром; долдон Ваня Малиновский, усатый переросток, в вечно коротком ему мундире; сонный барон Дельвиг, который шалил, по словам одного из гувернеров, даже во сне; Данзас-тугодум, по неповоротливости мышления всегда оказывавшийся среди самых бойких; на сей раз между ними сидел и Кюхельбекер, обыкновенно не принимавший участия в шалостях, но по необузданности характера иногда попадавший в переделки, совсем не соответствующие его душевному складу, нежному и ранимому сердцу, воспитанному на немецкой литературе и немецкой сентиментальности. К ним присоединился, несколько тушуясь, и Есаков, сел бочком на свободный стул.
— Сколько мы будем терпеть этого омерзительного ханжу? — обратился Пушкин довольно громко к товарищам, пользуясь тем, что гувернер вышел из столовой. — Он позволяет себе непростительные вольности в обращении с нашими сестрами и матерями, когда они посещают Лицей. Тому есть много примеров. Он дает прозвища нашим родителям. — Когда он говорил это, товарищи знали, что говорит он не о себе, потому что Пушкина родители не посещали. — Наконец, он из товарищей наших делает фискалов…
Пушкина внимательно слушали сидевшие рядом с ним Малиновский и Дельвиг, а издалека косил глазом буйный Мясоедов, по иронии судьбы сегодня сидевший ближе к примерным членам лицейского общества. Ноздри его раздувались.
— Действительно! Только подлецы могут терпеть его и общаться с ним, — жарко поддержал его Кюхельбекер. — Верно, Саша, надо объясниться с ним раз и навсегда! И немедленно!
В столовую вернулся гувернер Калинин, с высоты своего немалого роста окинул столовую взором, воспитанники попритихли.
Обед закончился, и все стали подниматься из-за стола.
Разговор продолжался уже в коридоре, где сгрудились воспитанники.
— Все, о чем вы говорите, совершенно неприлично и недостойно порядочного человека! — рассудительно говорил Модест Корф. — Нам надобно учиться и думать о будущем, а не обсуждать учителей и наставников наших!
— Ну, твое-то мнение, Модинька, мы знаем! Вечно законопослушный барон Корф! — съязвил Пущин.
— Да, законопослушный! — подтвердил его слова сам Корф. — И горжусь этим, Корфы всегда служили России.
— Ну уж так сразу и России! И давно ли? И двадцати лет нет, как Курляндия присоединена к России, — усмехнулся Пущин. — Хотя я тоже придерживаюсь мнения, что не следует делать обструкцию господину надзирателю.
— Господин надзиратель поставлен заботиться о нас, — напомнил Есаков.