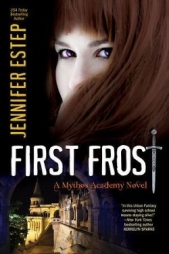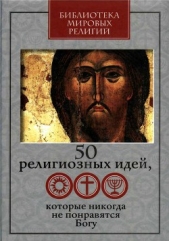Лжетрактат о манипуляции. Фрагменты книги
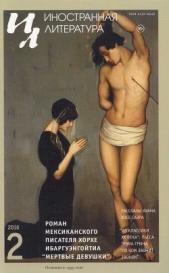
Лжетрактат о манипуляции. Фрагменты книги читать книгу онлайн
В рубрике «Документальная проза» — фрагменты книги «Лжетрактат о манипуляции» Аны Бландианы, румынской поэтессы, почетного президента румынского ПЕН-клуба, директора-основателя Мемориала жертв коммунизма и проч. Тоталитарный опыт, родственный отечественному. «И к победам моей жизни я приписываю моменты, когда те, кому не удалось меня испугать, в итоге пугались сами…» Перевод Анастасии Старостиной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все, что я читала потом из Эмиля Чорана, все упоминания о румынах, часто оскорбительные, были отмечены нестерпимо яркой аурой этого случая и в ее болезненном свете приобретали другие смыслы, часто опрокинутые вверх дном. Как будто бы злая фея — как это бывает в сказках — явилась при его рождении, и, после того как Чоран получил все дары, он получил и наказание ненавидеть все, что он любит, и отрекаться ото всего, с чем безнадежно связан. Любовь, поставленная с ног на голову, — как колонны, капителью книзу поставленные в основание храмов Эхнатона, — мучила его всю жизнь и отметила темным, завораживающим блистанием все его творчество. Когда он выражал восхищение, безмерное благодаря его таланту, нашими коллегами с Запада, он прекрасно понимал, что вызовет этим горечь у соотечественников-арделян; точно так же, когда упоминал о Румынии, он всегда писал «там на Балканах», хотя, конечно, знал не только то, что наши горы называются Карпаты и что Балканы расположены к югу от Дуная, но и что балканизм для его соотечественников есть понятие негативное. Это было как перекрутка любви в неприязнь с тем, чтобы отомстить за зависимость, которую любовь на него налагала и от которой он не мог освободиться, что бы ни делал. И это не только по отношению к этнической матрице, к корням, которые он не мог у себя вырвать, но и по отношению к Богу, которому не мог простить его неоспоримого присутствия. И, главное, не мог простить, что Бог отказал ему в способности чувствовать в себе Бога, что приговорил в одно и то же время к желанию достичь Его и к невозможности преодолеть дистанцию.
Один немецкий профессор, поклонник и переводчик нескольких его книг, с которым он вел интенсивную переписку по проблемам стиля, возникающим на границе двух языков, спросил его раз, что он, в сущности, имеет против апостола Павла, который очевидным образом есть гений. А Эмиль Чоран с его странным, обворожительным юмором, и играя, как обычно, на фривольности, увернулся: «Трудно быть поповским сыном». Помню потрясение, испытанное мной, когда я прочла этот ответ, чуть ли не впервые открывая, как Чоран — с некоторой небрежностью, возможно, тоже нарочитой, — выставлял напоказ раны, которые раньше с ожесточением старался скрыть. Как будто он пытался манипулировать не другими, а прежде всего самим собой, как будто он сам себя подверг унижению, предназначаемому наказать гордыню.
Меня, как дочь священника, шутка Чорана пленила не только тем, как он уклонился от вопроса насчет причин его ожесточения против апостола Павла. Мне показалось, что я давно нашла ответ на вопрос, который сама мысленно поставила на полях его книг. При всем видимом упрощенчестве, мое предположение было такое: ожесточение представляло собой форму зависти к другому мыслителю, которому, несмотря на его интеллектуальность, не было отказано в вере. Что поразило меня в его ответе, так это свидетельство — возможно, невольное, — что его религиозные корни, как и корни этнические, затрудняли ему жизнь и ограничивали свободу, и это раздражало его не только потому, что ограничения унижали, но и потому, что он чувствовал еще большее унижение от своей собственной неспособности отграничиться от них. Сколько бы ни отказывался он говорить по-румынски, сколько бы ни сближались с кощунством его блестящие антихристианские диатрибы, он знал, что речь идет только о попытке манипулировать истиной, которую он знал и от которой, он тоже знал, ему было не отделаться, как бы он ни старался. Пригорок Боаки [2] при всей самоироничности тона, каким он произносил это прозвание, вызывал при каждом воспоминании болезненную ностальгическую дрожь, а в блистательности выпадов против апостола Павла из-под рьяного упрямства проглядывало сомнение.
Естественным образом напрашивался вопрос: а то, что я была дочерью моего отца, это когда-нибудь меня угнетало, чувствовала ли я себя когда-нибудь скованной тем, как моя судьба обусловлена дефиницией моего отца? Однако еще не закончив формулировать этот зеркальный вопрос, который был продиктован не недостатком скромности, но, напротив, тревожным смирением, я поняла, что параллель здесь абсурдна, просто-напросто из-за того, что мой отроческий бунт, который нормальным образом должен был обернуться против родителей (как это обычно бывает), в условиях, когда мне ставили в укор мое социальное происхождение (со всеми его религиозными, политическими, философскими коннотациями), перешел в солидарность с ними, с теми, кто страдал и из-за кого страдала я.
Тот факт, что отец сидел в тюрьме, будоражил во мне воспоминания, как он отправлял службу перед царскими вратами. А если бы мне не мешали поступить в университет из-за того, что я была его дочерью, усилив тем самым связь между нами, я, может быть, думала, что крепость семейных уз стесняет меня в моих поступках или что их традиционная банальность не позволяет мне быть самой собой. Дух отроческого противоречия сработал тут в обратном направлении, и я не сомневаюсь, что как атеистическая пропаганда, так и то, что отца уже не было в доме и он не мог передать мне свои убеждения, способствовали, как ни парадоксально, укреплению моей веры в Бога.
Но это в скобках, я отвожу вопрос, который здесь был бы неуместен. Чего нельзя сказать об обоснованности моего сравнения. Как бы я реагировала и как сопротивлялась бы с вырванными корнями и без самой хлипкой надежды снова увидеть единственное место, где могла бы опять прижиться? Может быть, я отрицала, что это место еще где-то существует, и осыпала его оскорблениями, запрещая себе видеть его и во сне, как оно запрещено мне наяву? Но помимо всех этих вопросов, умозаключений и объяснений и даже помимо гениальной красоты страниц (с их болезненной подоплекой), подписанных Эмилем Чораном, в моей памяти остается невероятной интенсивности сцена, которую я пережила в мансарде на рю Одеон, испуганная и неистовством его вырвавшихся из-под спуда воспоминаний, и своим душераздирающим сочувствием.
Встреча с Мирчей Элиаде, семь лет спустя, хотя и совсем другая, оставила по себе то же мучительное чувство.
Мы были стипендиаты в университете Айовы, где много лет действовала международная писательская программа, в которой участвовала и Румыния. Каждый год приглашались два назначенных американцами писателя, по преимуществу семейные пары. До нас там побывали Александру Ивасюк и Тита Кипер, Чезар Балтаг и Иоана Банташ, Констанца Бузя и Адриан Пэунеску, Янош Сас и Ханнелоре Лацина, Штефан Бэнулеску и Михаэла Гуга, Марин Сореску с женой. В том, 1974 году, пригласили нас вдвоем и Петру Попеску, но после того, как уладились все визовые формальности, после того, как мы съездили к нашим мамам в Орадя и Альба Юлию, чтобы попрощаться, с тяжелым сердцем, на девять месяцев, все застопорилось. Вышло постановление, запрещающее заграничные стипендии для румын, если только выбор кандидатов не был сделан румынскими властями. А мы были выбраны американцами. Парадоксально, но первой реакцией стало облегчение. Все треволнения, связанные с отъездом на другой континент, почти на другую планету, с билетом, где была беспощадно проставлена дата возвращения — через три четверти года, — вдруг исчезли. Потом, когда Петру Попеску все же уехал, получив только для себя послабление к новому правилу, нас обуяло возмущение — до чего же была знакома эта тень невидимой железной решетки, тень, падающая к тому же избирательно. К счастью, в отличие от нас, прекрасно понимающих, в чем дело, американцы ничего не понимали и не принимали логику, в соответствии с которой один из приглашенных прибыл, а двое других — нет. И говорили об этом, не унимаясь, требовали объяснений и настаивали. В конце концов, мы тоже отбыли и оказались в Айова-Сити с четырехмесячным почти опозданием, в канун Рождества. Одной из первых наших забот было написать Мирче Элиаде, чей адрес нам дали Михаэла и Штефан Бэнулеску, которые рассказывали, как Мирча Элиаде разыскивает и приглашает к себе в Чикаго румынских писателей, приезжающих в Айова-Сити, и что из-за нашего опоздания его письмо могло затеряться, а он мог подумать, что мы боимся на него ответить.