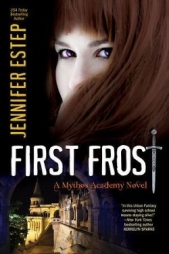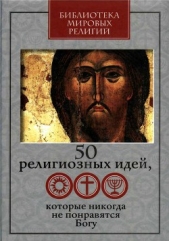Лжетрактат о манипуляции. Фрагменты книги
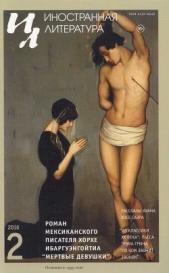
Лжетрактат о манипуляции. Фрагменты книги читать книгу онлайн
В рубрике «Документальная проза» — фрагменты книги «Лжетрактат о манипуляции» Аны Бландианы, румынской поэтессы, почетного президента румынского ПЕН-клуба, директора-основателя Мемориала жертв коммунизма и проч. Тоталитарный опыт, родственный отечественному. «И к победам моей жизни я приписываю моменты, когда те, кому не удалось меня испугать, в итоге пугались сами…» Перевод Анастасии Старостиной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так что, хотя женщина и сидела неподвижно в машине, сейсмическим волнам ее присутствия удалось подорвать нашу социальную жизнь до самых корней, делая ставку на коллективную психологию, день ото дня усиливая бездонные нюансы страха. Помню, что до определенного времени действие, производимое на других, было сильнее, чем на нас, и в связи с этим не могу забыть одно происшествие — такое оно произвело на меня впечатление, хотя на первый взгляд могло показаться комическим. Как-то раз днем, возвращаясь домой, я встретила музыканта, который, сделав запись на радио, оставил машину через дорогу от нас. Поскольку нас давно связывала взаимная интеллектуальная симпатия, мы проговорили много минут подряд, пока я не сказала в шутку, что, надеюсь, нас не слышит женщина в машине, стоящей в нескольких метрах за моей спиной. Не знаю, что на меня нашло, так или иначе, шутка доказывала, что меня не так уж угнетает ситуация, о которой, как я думала, все знали, да и я сама не стеснялась рассказывать направо и налево о машине перед домом (позже я сообразила, что моя болтливость, которую я считала формой неприятия и несотрудничества, обернулась против меня, производя на других устрашение и вызывая ответные запрограммированные действия). В любом случае, реакция того, с кем я тогда разговаривала, меня потрясла: он посмотрел, куда я ему указывала, и, даже не попрощавшись, не дав мне закончить фразу, бросился бежать, оставив незапертой машину, куда как раз собирался садиться и которую осмелился забрать только ночью.
Что касается меня, то присутствие женщины стало устрашающим с того момента, когда кто-то объяснил мне, что существуют аппараты, которые могут подслушивать на расстоянии десятков или даже сотен метров то, что происходит за стеной, и что очевидным образом все, что мы говорили в доме, слушала женщина в машине, оказывающаяся таким образом гораздо более занятой, чем я думала. Не помню, кто сказал мне это, и сейчас думаю, что речь шла об интоксикации, предназначенной, чтобы выбить меня из беззаботности, которой меня благословил Господь, и бросить в ад страхов, распространенных на всех. Я даже спрашиваю себя, сейчас уже весело, какой смысл имели бы все их усилия, так сложно задуманные, если бы им не удалось меня запугать (а я без труда могу представить себе такую ситуацию)? Однако с того момента мы действительно месяцами не говорили в своем доме иначе как шепотом или знаками, не потому что все время надо было говорить вещи, не предназначенные для чуткого уха секуритате, а потому что мысль, что они могут услышать самое невинное восклицание или даже просто «Хочешь еще кофейку?» наполняла меня чувством унижения и бесчестья. Хорошей стороной этой ситуации, которая легко могла кончиться неврозом, было то, что нам не оставалось ничего, кроме как писать, и, вопреки всему, что случилось с нами в течение 89 года, в тот год мы написали больше и, думаю, лучше, чем раньше, поскольку письмо стало прямо-таки альтернативой жизни и даже формой спасения. Это период, когда я написала большую часть романа «Ящик с аплодисментами»: он рождался день за днем из поставляемого нам ежедневно сырья и таким образом придавал смысл абсурду и переживаниям, смысл и резон, благодаря которым их гораздо легче было перенести. Подзаголовок, который был придан книге через несколько лет на презентации ее немецкой версии («Die Applausmaschine») — «Книга, которая спасла мне жизнь», — имел, помимо расчетов маркетинга, именно это значение.
Но больше, чем само присутствие женщины, ее программа открыла черные дыры всех подозрений: кто из соседей, в течение двух других осьмушек времени, делал то, что делала она? Или были другие — какие? — приемы, с помощью которых за нами следили в остальное время? Иногда я думала, что, если главная цель тут — профилактическая, создание страха, который запретил бы даже помыслить о сопротивлении, может, и не нужно было покрывать слежкой все наше время полностью, довольно было, чтобы мы были уверены в этом покрытии. Сейчас я убеждена, что была неправа и что тщательность, с какой они работали, намного превышала наше воображение. Впрочем, после 89 года я узнала, что кое-кого, кто шел к нам, задерживали еще на углу и советовали повернуть назад. Что пугало — это не сам запрет, а то, что люди были разгаданы в своем намерении навестить нас, хотя от угла они могли пойти к любому другому дому на улице. Трудно сказать, следили ли за ними, чтобы перехватить заранее, или просто следили за всеми прохожими на нашей улице, но так или иначе это означало, что женщина в машине была не единственной. Впрочем, несколько раз, когда какой-то форс-мажор заставлял ее покинуть пост, ее сменял потешный толстячок, который хуже переносил ситуацию: то и дело вылезал из машины, вертелся вокруг нее с таким видом, что хочет уйти. Она, женщина, вела себя поответственнее, а в большую жару или в мороз — просто героически. Часто мне становилось жаль ее и хотелось предложить стакан холодной воды летом или горячего чая зимой. Я не сделала этого, потому что это выглядело бы вызывающе, даже если я была далека от таких мыслей.
Поскольку мы старались как можно больше времени жить в Комане, где надзор, даже если он существовал, был не так очевиден, нам было любопытно, стоит ли машина с женщиной на своем месте в наше отсутствие. Мы узнали, что нет. Но когда бы мы ни возвращались из Команы, мы находили женщину при исполнении обязанностей, как будто она не делала никакого перерыва. Единственным объяснением было то, что, когда мы выезжали из Команы, эта весть передавалась в Бухарест, и к нашему приезду женщина занимала свой наблюдательный пост. Чтобы проверить свое предположение, раз, будучи в Комане, мы дождались, пока стемнеет и все соседи лягут спать, после чего, толкая, вывели машину со двора, не включая зажигание, дотолкали под горку до конца улицы, откуда повернули к лесу, в сторону, противоположную центру села и, сделав крюк, выехали на трассу, никого не встретив. В Бухаресте оставили машину на параллельной улице и вернулись домой, не поднимая шума и не зажигая света. Мы уснули с чувством, что играем в плохом фильме про подпольщиков, но утром, встав поздно и победно открыв окна, не нашли постовой машины на своем месте. Она появилась примерно через час после нашего показательного пробуждения — с видом, как мне показалось, побитым. Не исключено, что нам от этого стало только хуже, но, при всей бесполезности нашего демарша, мы убедились, по крайней мере, что никто из соседей на нашей деревенской улице нас не предал, хотя при желании могли бы: проснулись бы очень рано, как обычно, — а нашей машины уже нет во дворе. И все же никто не донес, раз машина с женщиной появилась много позже, после констатации свершившегося факта. Вывод, по меньшей мере, ободряющий, один из немногих успокоительных сюрпризов, которые выпадали нам в тот период.
Попадая впросак
«Когда, почему и сколько раз я попадала впросак?» — вот вопрос, ответ на который — не тот же, что на вопрос «Сколько раз я допускала просчет?» Потому что хотя попадаешь впросак по большей части в результате просчета (многие ли из нас имеют твердость или безумие заранее обдумывать ситуацию, где они окажутся в неловком положении?), случались в моей жизни моменты, когда я, как какой-нибудь мазохист, сама выбирала для себя эту роль. Роль, которую сама выстраивала для себя и знала с самого начала, чем все обернется, а иногда просто входила в нее, не задумываясь или именно просчитавшись, не сразу сообразив что к чему, но из упрямства не отказывалась от замысла, даже самого нелепого. А случались другие ситуации, где нелепое не было очевидным, но таилось в глубине, неприметное, и раскрывалось только потом, как трагическое семя вещей.
Помню пример, прекрасно иллюстрирующий этот последний вариант, — долгую и драматическую дискуссию с коллегой, литературным критиком, на тему, которая меня не отпускала. Помню место, где мы встретились, — на лестнице, в здании журнала, где он был редактором, а я — постоянным автором, и помню, как я была рада встрече, потому что как раз хотела поделиться с ним своей дилеммой. Речь шла о борьбе с цензурой, которую я вела за правду каждого слова и каждой строчки, но, когда я побеждала, правда в силу изощренной логики превращалась в ложь. Если в конце концов удавалось напечататься, отсюда выводилось заключение, что печататься можно, то есть ценой неимоверных усилий ты давал сертификат на свободу несвободному обществу. Победа — почти через абсурд — публикация книги, где ты пытался сказать правду, становилась аргументом — чем более убедительным, тем более пагубным — в пользу лжи о свободе. Только если бросить бороться с цензурой и, значит, не публиковаться, станет видным истинное лицо диктатуры. Не публиковаться, выходит, честнее, чем публиковать самые честные страницы? Но это означало бы выбрать полную тьму, угасание всего, смерть культуры. Что предпочтительнее? Что правильнее? Может быть, последний выбор, назовем его «выбор зеро», если и был в состоянии изобличить истинное положение вещей, по сути, был бы выбором победы небытия?