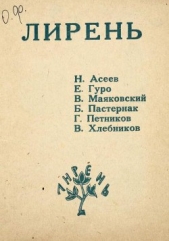Маяковский. Самоубийство

Маяковский. Самоубийство читать книгу онлайн
Смерть и бессмертие… В приложении к Маяковскому оба эти слова таят в себе множество вопросов. О причинах трагической гибели поэта спорят поныне, и споры эти сегодня так же горячи, как в тот роковой день 14 апреля 1930 года. И с бессмертием Маяковского дело обстоит тоже непросто. На какое бессмертие может рассчитывать поэт, сказавший: «Умри, мой стих…», «Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь…»?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот что скрывалось за словом «мастерство» для Блока, для толстовского художника Михайлова и для самого Толстого.
Но было у этого понятия и другое значение, толстовскому Михайлову (и самому Толстому, конечно, тоже) враждебное. Даже не просто враждебное, а вызывающее у него судорогу отвращения:
► — Да, удивительное мастерство! — сказал Вронский. — Как эти фигуры на заднем плане выделяются! Вот техника, — сказал он, обращаясь к Голенищеву и этим намекая на бывший между ними разговор о том, что Вронский отчаивался приобрести эту технику…
Несмотря на возбужденное состояние, в котором он находился, замечание о технике больно заскребло на сердце Михайлова… Он часто слышал это слово техника и решительно не понимал, что такое под этим разумели. Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что технику противополагали внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно. Он знал, что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все покровы; но искусства писать, техники тут никакой не было… Самый опытный и искусный живописец-техник одною механическою способностью не мог бы написать ничего, если бы ему не открылись прежде всего границы содержания. Кроме того, он видел, что если уже говорить о технике, то нельзя было его хвалить за нее. Во всем, что он писал и написал, он видел режущие ему глаза недостатки, происходившие от неосторожности, с которою он снимал покровы, и которых он теперь уже не мог исправить, не испортив всего произведения. И почти на всех фигурах и лицах он видел еще остатки не вполне снятых покровов, портившие картину.
Добровольно отказавшись от своего высокого предназначения, променяв миссию поэта-пророка на роль поэта-мастера, Маяковский под этим словом, обозначающим его новое понимание «места поэта в рабочем строю», подразумевал не что иное, как именно «механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания».
Он декларировал это открыто и прямо:
► «Да здравствует социализм!» — под этим лозунгом строит новую жизнь политик.
«Да здравствует социализм!» — этим возвышенный, идет под дула красноармеец.
«Днесь небывалой сбывается былью социалистов великая ересь», — говорит поэт.
Если бы дело было в идее, в чувстве — всех троих пришлось бы назвать поэтами. Идея одна. Чувство одно.
Разница только в способе выражения.
Смертоносный заряд, который несла в себе эта концепция искусству, с самого начала был виден невооруженным глазом.
На семинарском занятии в МГУ студент задал В. Ф. Переверзеву вопрос:
— Как вы относитесь к теории социального заказа?
Ответ последовал мгновенный и недвусмысленный:
— Никакой теории социального заказа нет. Есть теория социального приказа.
Формула эта лишь предельно обнажила суть дела. То, что «социальный заказ» — лишь псевдоним «социального приказа», ни для кого не было тайной.
Парадокс состоял в том, что это не было тайной и для самого Маяковского.
Когда Маяковского упрекали, что он пишет то, что ему велят, он отвечал:
— Дело не в том, что мне велят, а в том, что я хочу, чтобы мне велели.
Так говорить, а главное — так думать и так чувствовать его побуждала не партийная дисциплина и, уж конечно, не склонность к столь ненавистному ему приспособленчеству. Но результат был такой же плачевный.
В 1914 году молодой Маяковский написал и напечатал язвительную статью — «Штатская шрапнель. Поэты на фугасах»:
► Пересмотрел все вышедшие последнее время стихи. Вот:
Вы думаете это одно стихотворение? Нет. По четыре строчки Брюсова, Бальмонта, Городецкого. Можно такие же строчки, одинаковые, как баранки, выбрать из двадцати поэтов. Где же за трафаретом творец?
Составляя эту «колбасу» из трех четверостиший трех разных поэтов, он полагал, что вся беда этих трафаретных строф, «одинаковых, как баранки», состоит в том, что авторы их пользуются устаревшим, стершимся, как медный пятак, пришедшим в негодность способом выражения.
Надо обновить способ выражения. А еще лучше — найти, выработать другой, новый способ выражения, более соответствующий гулу и ритмам нового века.
И он его выработал:
Вы думаете, это одно стихотворение? Нет. Первое четверостишие из стихотворения «Призыв», второе из стихотворения «Посмотрим сами, покажем им» и третье из стихотворения «Сплошная неделя».
Такие же четверостишия, «одинаковые, как баранки», можно выбрать из двадцати, сорока, сотни его стихотворении. Не спасают ни современные ритмы, ни искусно составленные каламбурные рифмы («пас нас» — «опасность»).
О мастерстве, про которое говорил Блок и толстовский художник Михайлов, на свой лад, своими словами говорил каждый крупный художник.
Хемингуэй, например, однажды сказал об этом так:
► Я стремился возможно более полно описывать жизнь такой, как она есть. Подчас это было очень трудно. И я писал коряво; вот эту мою корявость и назвали моим особенным стилем. Все мои ошибки и шероховатости очень легко заметить, но их назвали моим стилем.
Разве не так же и толстовский Михайлов «во всем, что он писал и написал… видел режущие ему глаза недостатки, происходившие от неосторожности, с которою он снимал покровы, и которых он теперь уже не мог исправить».