Атлантов в Большом театре
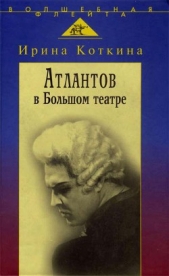
Атлантов в Большом театре читать книгу онлайн
Ирина Коткина
Атлантов в Большом театре
Судьба певца и Движение оперного стиля
Москва 2002
ББК85.3 K733
Разработка серии А.Парина Оформление серии З.Буттаева Для знака серии использован рисунок Е.Гинзбурга
Издатели благодарят фонд Л. Казарновской за помощь в создании книги
Информационный спонсор — радиостанция «Эхо Москвы»
Коткина И.А. Атлантов в Большом театре: Судьба певца и движение оперного стиля. — М.: «Аграф», Большой театр, 2002. - 336 с, ил.
Это первая книга о выдающемся русском певце Владимире Атлантове. Она написана Ириной Коткиной — специалистом по музыкальному театру и, в частности, по вокалу. Издание построено по интересному принципу: в каждой главе автор подробно анализирует творчество Атлантова, прослеживает все этапы его творческого пути, а затем помещает фрагменты своего разговора с певцом, в котором тот сам комментирует соответствующие события своей жизни. На каждый вопрос автора следует подробный, эмоциональный ответ певца. Такое построение придает книге дополнительное своеобразие.
В книге не только обрисован образ большого русского певца — автор-исследователь ставит и пытается решить интереснейшие и актуальные для современного музыкального театра вопросы: традиции и стили в опере, режиссура и музыкальное руководство в оперном театре, функционирование различных оперных театров мира и т.п.
Много страниц книги посвящено блестящему поколению сверстников и коллег Атлантова: Образцовой, Милашкиной, Нестеренко, Мазуроку.
В издании освещены также малоизвестные для русского зрителя и читателя страницы жизни выдающегося тенора - его выступления на лучших сценах Западной Европы и Америки.
Особую ценность книге придают глубокие теоретические познания и литературный талант ее автора И. Коткиной.
ББК85.3
ISBN 5-7784-0174-4
© Коткина И.А., 2002 © Издательство «Аграф», 2002
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поиски нового драматичного сценического языка, способного дать театральное воплощение ожесточенному сознанию, породившему оперы XX века, определили всю творческую жизнь Покровского. Инсценировка опер Шостаковича и Прокофьева, в свое время не дошедших до сцены Большого театра, явилась для режиссера главным смыслом и оправданием его театрального пути, существо которого заключалось во внутреннем стремлении преодолеть эстетику прошлого и замкнутости в рамках этой эстетики.
С эстетикой оперного театра 30—50-х годов Покровский спорит всю жизнь горячо и отчаянно. Режиссуре баратовской эпохи Покровский не мог простить если не нравственной лжи, то кажущейся пассивности. Ситуация, при которой певец, облаченный в подлинное платье давно минувшей эпохи, защищенный от реальности роскошным блеском декораций и освобожденный для активного сценического действия ненавязчивой логикой выразительных мизансцен, сообщал зрительному залу неприкрашенную и тревожную правду о своем времени, была очень частой ситуацией на спектаклях Большого театра того времени.
Покровский жаждал говорить правду сам, а потому стремился сделать равноценно-многозначительными все элементы спектакля, лишая певца его прежней сценической инициативы. Внутренней задачей Покровского было вывести оперный персонаж из традиционной обстановки оперного спектакля 40-50-х годов, в котором режиссура была лишь частью целого.
Уже в ранних спектаклях Покровский принялся изнутри взрывать установленную внешнюю гармонию. Его постановки избыточны, его мизансцены перенаселены. Достаточно вспомнить сцену Торжища из оперы «Садко», чтобы оценить то упоение, с каким Покровский перемещает толпы статистов из кулисы в кулису, тот восторг, с каким он заставляет хористов совершать тысячи движений, ту легкость, с какой он организует разнообразную и подробную жизнь сценической толпы, не обусловленную ничем, кроме желания режиссера показать свое мастерство.
В постановках более поздних лет Покровский заполняет сцену подробностями подлинной жизни. Он всеми силами стремится достичь житейской достоверности, раздавая артистам миманса характерные задания, заставляя солистов обыгрывать бытовые детали сценического антуража. Однако эта приближенная креальности жизнь, выходящая на сцену и заполняющая ее, у Покровского не становится театром. Это и отличает сценический реализм Покровского от реализма начала века, возникшего от избытка, а не от недостатка театральности. В переполненных спектаклях Покровского очень часто возникает ощущение ограниченности сценического пространства, в них мало воздуха, и, несмотря на размах, ощущение неполноты жизни преследует его постановки. Главное же, лишив оперного героя привычной поэтической защиты сказочно-исторической оперной среды и окружив его обстановкой реалистической и функциональной, Покровский тем самым реабилитировал обыденное человеческое сознание.
И в этом — корень конфликта Покровского с певцами Большого театра, ибо пение поколения Атлантова не обыденно, оно поэтично. Покровский, очевидно, имел основания называть современную эпоху Большого театра мещанской: «Когда иная мизансцена на моей репетиции казалась «мастерам» непривычной, вызывали министра для разбирательства... Тот, кто называл себя «мастером», не позволял делать замечания в свой адрес. Конфликт, разнос, донос и... Новый репертуар, новые требования к исполнителям — тоже нежелательны: «Мы не хотим портить голоса и кривляться на сцене!» Вновь — конфликт!»*.
Однако на сцене художественная правда, которую несли голоса этих мастеров, побеждала, она была шире их ограниченных личных пристрастий. Положение актера в спектаклях Покровского не было романтичным, но - героичным. Жизнь, кипящая вокруг солиста, лишь подчеркивала одиночество поющего на сцене человека, его тайную незащищенность и явное избранничество. В постановках Покровского, кажется, непреднамеренно развивается мотив противостояния отвлеченной красоты пения наступающему со всех сторон неопоэтизированному миру конкретных действий и обыденных вещей. Обозначенная в этих спектаклях новая героическая ситуация, когда протагонист вступает в противоборство не только с внешним миром, но и с миром внутри спектакля, провоцировала ожесточение сознания и приводила к драматизации таланта. В свете ее путь Атлантова от лирических партий к драматическим приобретает некоторое символическое значение, свидетельствует не только об изменении свойств голоса, но и души.
* Б. Покровский. Когда выгоняют из Большого театра. М., APT, 1992, с. 195-197.
Театр Покровского отразил противоречивые стремления. В 70-х годах оперный репертуар Большого расширился за счет опер Моцарта и Вагнера, Генделя, Равеля, Бартока, Щедрина и Тактакишвили. Лишенное логики и четкой программы, расширение репертуара говорило о поисках нового образа Большого театра и о том, что эти поиски не были непосредственно направлены на театральное воплощение вокального стиля того блестящего поколения певцов, к которому принадлежал Атлантов.
В поисках нового образа театра Покровский обращался к самым модным и актуальным театральным приемам. Однако злободневность изолировала постановки Покровского от истории, и чем более современный спектакль ставил режиссер, тем быстрее он устаревал. В «Тоске» Покровский предпринял решительную попытку разорвать этот заколдованный круг.
Вместо традиционно-конкретной или новаторски-абстрактной исторической обстановки в этой опере на сцене должна была возникнуть метафорическая среда. «Жизнь,., этот дьявол, всегда диктует нам — режиссерам... такую... реакцию, которая нагромождает и обытовляет обстоятельства... При всем быте, который существует в произведении Пуччини, меня интересуют страсти, и чем обнаженнее эти страсти будут представлены, тем вернее...
Я просил, чтобы на сцене было как можно меньше вещей. Но если какая-нибудь вещь будет, то лучше, если она будет подлинной, настоящей, красивой, потому что нам очень важно, чтобы эти вещи играли на образ...»*
Однако быт, почти вовсе изгнанный из спектакля, не желал превращаться в художественный образ. Напротив, любой предмет, который должен был сообщать что-то помимо своего бытового назначения, на глазах рос, крупнел, замыкался в себе, не желая расставаться со своей материальной тяжестью. И, кажется, Покровский, допустив на сцену в «Тоске» только самые избранные, самые благонадежные вещи, осознавал эту угрозу, исходящую от театрального реквизита, подчинявшего себе все пространство сцены и отказывавшегося становиться метафорой.
* Беседа Покровского с участниками спектакля «Тоска». ГАБТ.
На репетициях Покровский доходчиво объяснял, что должен значить в спектакле тот или иной предмет, словно бы убеждая и заклиная не артистов, а вещи: «Тюремщик. Он давно работает в тюрьме. У него есть книга, и на каждого человека страница. Мимо него проходят разные люди в могилу... Внутренний мир людей его не интересует. Он живет своей жизнью»*, «...может быть, нам только книга и будет нужна после того, как героя расстреляют, перевернут страницу и начнут писать, кто следующий»**.
Однако эта книга на сцене, которой режиссер придавал такое большое значение, была просто огромной книгой, не более. Никакой художественной информации она не несла, никакой метафорической сути в себе не заключала или с упорством не раскрывала ее. И, быть может, язык метафор ускользал от режиссера потому, что образ в его постановках является не сам по себе, в своей художественной сути, а в рамках рассказа, всегда объясняющего его явление, всегда убивающего саму идею метафоры, отменяющую и заменяющую объяснения.
Все дело в том, что в спектаклях Покровского действует логика прозы, а не поэзии, постановщика ведет логика сюжета, а не музыки. Несмотря на то, что Покровский разработал специальную технику, названную им «режиссерским анализом партитуры», позволяющую проникнуть в самую суть музыки, объяснить значение каждого такта, в опере постановщик прежде всего ищет драму, ищет действие, его занимает фабула, и он находит «хорошо сделанную пьесу» даже в античной трагедии. Покровский, один из самых просвещенных и одаренных режиссеров, остается глух к тем смутным призывам и неясным обещаниям музыки, которые убегают от слишком яркого света разума и безупречных построений рассудка. «Надо проанализировать произведение, расщепить его на тысячу кусочков... Когда разберем, поймем смысл каждого куска и как они связаны между собой... Самое главное — убить «вдохновение» и ту «непосредственность», которая химически связана с дилетантизмом»***. Понятие профессионализма, питающее режиссерскую гордыню, заставляет Покровского подходить к партитуре как к загадке, которую можно и должно разгадать, а не как к необъяснимой тайне.























