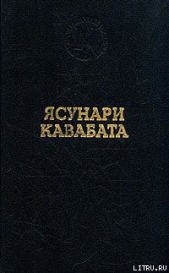Азорские острова

Азорские острова читать книгу онлайн
«… И как же тут снова не сказать об озарениях.
Многое множество накоплено в памяти странных мимолетностей, которые со мной навечно. И добро бы что высокое, героическое или ослепительно прекрасное, – нет! Вот Яша, например, с его уютным хозяйством. Вот стожок под снегом и красные снегири на ветках, как райские яблочки.
Вот – шевелящийся свет от фонаря на потолке.
Черный колодезь и сверток со стихами.
Мужичище в маньчжурской папахе.
Театральный занавес, подсвеченный снизу, и деревянный стук разбитого пианино.
Нерусский черт с дирижерской палочкой.
Сколько их, этих отзвуков, этих озарений!
Они возникают непроизвольно, в безбрежье памяти появляются вдруг, как Азорские острова в океане. И не в связи с чем-то, и вовсе не всегда кстати, но всегда стихийно и радостно.
И я буду проплывать мимо этих островов памяти, не спеша, пристально вглядываясь в их причудливые очертания, дополняя воображением то, что иной раз окажется скрытым в глубине заросших лесами и травами берегов. …»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Как ваша фамилия? Как? Как?
Черная трубка уткнулась в меня. Мне стало смешно, я в первый раз видел человека, слушающего в рожок.
– Кораблинов, – сказал я.
– Корабль блинов! – засмеялся маленький, весь подсушенный, быстрый в движениях. Он сдвинул соломенную шляпу на затылок и, не глядя в нашу сторону, выпалил скороговоркой:
И всем стало весело, все засмеялись. Листы мои были в руках у Дерптского. Светловолосый, похожий на мастерового, заглянул в них.
– И-ма-жи-низьм, – отчеканил по слогам, не то в похвалу, не то в осуждение. Но с мягким знаком.
Я сконфузился совершенно, пробормотал:
– До свиданья…
Слуховой рожок ткнулся в меня, в мастерового, в Бахметьева, в соломенную шляпу.
Я бежал позорно.
– Послушайте! – крикнул Дерптский. – Зайдите завтра!
Но я уже был на лестнице. Черный перст на белой картонке уже не указывал, а строго грозил: «Эх ты, блин не нов… писатель, елки-палки!»
Во дворе я встретил Костю Михнюка, художника. Мы с ним учились в мастерских, я о нем уже говорил. Теперь он работал в редакции, резал на линолеуме клише; цинкографии тогда еще не было.
– Ты что, Володюшка? – удивился Костя.
Я рассказал и спросил – кто это в соломенной шляпе, похожий на высушенный гриб.
– Гриша Томилин, подписывается Гр. Том. Славный, веселый малый, из старых газетчиков.
Во-он что! Веселый.
– А в куртке замасленной?
– Андрей Платонов. Слыхал?
Ну, еще бы! Странные стихи, от них машинным маслом пахло, как на типографской лестнице.
Мне они не нравились.
Ни завтра, ни через месяц в редакцию я не пошел. Про поэму свою и думать позабыл.
Но вот как-то был у нас в училище вечер. Пел хор, плясали, декламировали «Каменщик, каменщик в фартуке белом»; физкультурники откалывали отчаянные номера; помнится, даже фокусы кто-то показывал.
И вдруг вылетела на эстраду одна из наших девиц, искусная чтица стихов, и по тоненькой книжечке стала читать мою «Осеннюю поэму». Я едва со стула не свалился, ей-богу, что-то вроде родимчика приключилось. Напечатали!
Не дослушав до конца, сбежал, и долго носило меня по ночным улицам тихого Воронежа. Обалделый, охмелевший от радости, от нового какого-то чувства, бо́льшего, чем просто гордость, я уже видел ослепительный путь к славе и захлебывался и слеп от этих видений…
Альманах «Зори», где появились мои стихи, был скромной, тоненькой книжечкой в бумажной обложке, рисунок для которой сделал и вырезал Костя. Он почему-то изобразил пару летящих уток, что, пожалуй, больше подошло бы для охотничьего журнала или сборника статей о природе.
Но тогда у нас, в Воронеже, на такие мелочи, как оформление книги, смотрели много проще, и хорошо еще, что на обложке были утки в камышах, а то метранпаж Степаныч из старого запаса типографских виньеток мог бы тиснуть совсем что-нибудь неподходящее – цветочную гирлянду с печальной урной, голеньких купидончиков или ласточку с письмецом в клюве. В обложке все-таки была поэзия, она звучала, как старинная воронежская «Летят утки»… Мне обложка казалась очень красивой.
Через «Осеннюю поэму» я сблизился с редакцией газеты, но произошло это не сразу. Сперва я, сам не знаю почему, даже побаивался туда идти, – ведь там все такие пожилые, знаменитые, куда мне до них, я с ними и разговаривать-то не сумею. Но как-то раз встретил на улице Костю, и он сказал мне:
– Куда ж ты запропастился? Тебе за стихи причитается.
Я пошел и получил первый свой гонорар, какие-то невероятные деньжищи – огромные розовые и синие листы – миллиарды или миллионы, не помню. Червонец первый советский, полновесный, обеспеченный золотом, еще не вошел в обращение; он пока лишь как образец выставлялся у дверей Госбанка, в рамке, наподобие киота, за стеклом, затянутым металлической сеткой. Под ним обозначалось, сколько на сегодняшнее число он стоит в миллиардах.
Возле кассы я столкнулся со Старым Френчем, он узнал меня.
– А-а, – дружелюбно пошмурыгал носом. – Что ж не заходишь?
Я осмелел и на следующий же день принес стихи о деревянной кукле, балаганном паяце, – что-то от Блока, а еще больше от Вертинского. Стихи напечатали в воскресном приложении к газете, в сатирическом листке «Репейник». Затем еще и еще – тоже книжные, манерные, подражательные. Печатали и это, но наконец секретарь редакции Георгий Плетнев не выдержал.
– Знаете, – сказал проникновенно, – это все весьма изящно, но ведь безделушки же, пустяк… Вы бы что-нибудь попробовали на злобу дня, так сказать. Антирелигиозное что-нибудь, вот пасха скоро… или о кооперации. И форму используйте попроще – частушку, раешник…
Я попробовал. И фамилия моя замелькала на газетных полосах.
В двадцатых годах улицу, которую нынче мы знаем как Двадцатилетия ВЛКСМ, еще называли Поднабережной. Мне она известна с детских лет. Я уже рассказывал о том, как обижали меня великовозрастные семинаристы; чтобы не встречаться со своими мучителями, мне приходилось добираться домой окружным путем, через Поднабережную и Манежную. Мог ли я думать тогда, что перекресток этих улиц навсегда останется в памяти не только как путь трусливого бегства от обидчиков-семинаристов, но главным образом как светлый, чудесный символ счастливейшей поры моей юности!
Та сторона проспекта Революции, где расположен главный почтамт, начиная от улицы Помяловского, от нынешнего мемориала в честь великой Победы, как это ни удивительно, выглядит точно так же, как выглядела в те далекие времена, о которых пойдет речь. Вот старинный двухэтажный дом с лепными львиными мордами в простенках между окон (некогда, в никитинскую пору, известная гостиница Шванвича), вот почтамт, построенный в начале века; вот скучные дома губернского правления, где около ста тридцати лет назад в должности губернского советника служил Второв… Наконец, у бывшего карлсоновского цветоводства – спуск вниз, направо, и – вот она, узкая, мощенная неровным булыжником Поднабережная. Выщербленные, кривые тротуары с каменными ступенями в иных местах; опрятные небольшие особнячки, среди которых один-два даже с некоторой претензией на «модерн»; и – разом – после довольно шумного проспекта с его трескотней извозчичьих пролеток, перестуком лошадиных копыт и говором множества людей, – разом тишина, но не сонная, не мертвая, а какая-то задумчивая, хорошая, осмысленная. Настежь распахнутые окна и звуки рояля – из одного, из другого, из третьего… Нескончаемые «ганоны», арпеджо, гаммы, а не то и Бетховен, и Григ, и Скрябин. Удивительно много музыкантов обитало на Поднабережной в этой ее верхней части – от Петровского сквера до Раевских казарм.
Улица была непроезжей. Между серыми камнями горбатой мостовой зеленела кудрявая травка, под дощатыми заборами и у ступенек подъездов как попало кустились лопушки, цикорий, желтые одуванчики, под которыми лениво, мирно, словно тут и не город вовсе, ползали красные, с черными точечками жучки, испокон веков именуемые детворой солдатиками. Тишина. Распахнутые окна. Музыка.
Похоже, тут никогда ничего не случалось такого, что могло бы нарушить ровное течение жизни, потревожить обитателей уютных особнячков, чем-то огорчить их.
Музыка.
Распахнутые окна.
Прозрачные звуки григовской «Весны».
Так виделось моим юношеским, восторженно раскрытым глазам, потому что сам я в ту пору чувствовал себя счастливым безмерно.
На самом стыке двух улиц – Манежной и Поднабережной – стояли два небольших дома: на углу Манежной – белый, двухэтажный, а прямо напротив, на взлобке высокого тротуара, другой, окрашенный в скучный желтоватый цвет, с шестью выходящими на улицу окнами. Эти два дома были, да, верно, и до конца жизни останутся в памяти как символический образ моей юности.