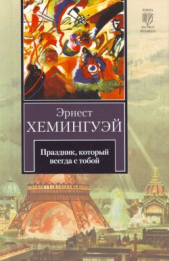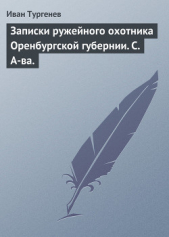Улица генералов. Попытка мемуаров

Улица генералов. Попытка мемуаров читать книгу онлайн
Имя Анатолия Гладилина было знаменем молодежной литературы периода «оттепели». Его прозу («Хроника времен Виктора Подгурского», «История одной компании») читали взахлеб, о ней спорили, героям подражали. А потом… он уехал из страны, стал сотрудником радиостанции «Свобода».
Эта книга о молодости, которая прошла вместе с Василием Аксеновым, Робертом Рождественским, Булатом Окуджавой, о литературном быте шестидесятых, о тогдашних «тусовках» (слова еще не было, а явление процветало). Особый интерес представляют воспоминания о работе на «вражеском» радио, о людях, которые были коллегами Гладилина в те годы, — Викторе Некрасове, Владимире Максимове, Александре Галиче…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итак, приехали в дачный поселок Новый Иерусалим. Фиг бы мы сами нашли дачу Эренбурга — Эдиков шофер нашел. Эренбург встретил нас на крыльце и провел в большую комнату, явно служившую столовой. В ней мы и проведи весь день, до вечера. Присутствовала жена Ильи Григорьевича, потом появилась какая-то женщина, которая молча сервировала стол: сухое вино и салат из крабов. Откровенно говоря, мы привыкли к другому застолью. Позже я понял, что Эренбург приучал нас к западному образу жизни. Когда я оказался во Франции, то сам убедился: местные аборигены обычно выставляют на стол сухое вино (а другого во Франции не бывает) и какое-нибудь одно блюдо. Всё. Точка. И это не признак хозяйского скупердяйства, а наоборот, утонченный, почти аристократический прием.
…Эренбург смотрел на нас с любопытством. Для него мы были «племя младое, незнакомое». А мы сами знали Эренбурга? Как ни странно, тоже не очень. Мы с Аксеновым, как отпетые модернисты, ценили раннюю прозу Эренбурга — «Хулио Хуренито», «Тринадцать трубок» и т. д. А его советский период и отмеченный Сталинской премией военный роман «Буря» у нас особого энтузиазма не вызывали. Когда Эренбург упомянул «Бурю», в глазах у Казакова зажглись иронические огоньки: он такого рода литературу вообще за прозу не считал. Но уже были напечатаны и, естественно, прочитаны нами первые две части новой (и как оказалось, последней) книги Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Книга, повторяю, уже имела широкий резонанс и взволновала общественность, но ее как прозу мало кто воспринимал — скорее публицистика, мемуары. И множество интересной информации — нам, молодым, ранее не ведомой. И множество умолчаний, недоговоренностей. Мы понимали, что Эренбургу, несмотря на его авторитет, писать всю правду не позволяли и цензура старалась и бдила, однако нас интересовали как раз эти умолчания и недоговоренности. Эренбург был человеком высокой европейской культуры, со сливками мировой культурной элиты на дружеской ноге. Его связывали с ней и молодые годы в парижской богеме, и гражданская война в Испании, где отметились все прогрессисты. Видимо, Эренбург ожидал, что мы будем расспрашивать об этих светочах, ибо лишь он один мог рассказать о них со всей полнотой, но тут мы его разочаровали: кажется, ни одного вопроса на эту тему с нашей стороны не последовало. Почему? Во-первых, для нас это были лишь газетные имена. Скажем, ни одной выставки Пикассо в Москве не проводили, а заграничных прозаиков и поэтов переводили крайне выборочно, в основном те книги, где авторы пели хвалу первому государству рабочих и крестьян. Во-вторых, раз эти прозаики и поэты участвовали во всех комитетах в защиту мира, антивоенных и антиколониальных конгрессах, они точно попадали под определение товарища Ленина «полезные идиоты», поскольку советская пропаганда и спецслужбы умело использовали их в своих целях.
А вообще, зачем мы поехали к Эренбургу? Хотя когда мы втроем (Казаков, Аксенов и я) появились в кабинете Твардовского, сменившего Симонова на посту редактора «Нового мира», ежу было понятно, зачем мы приперлись. Поездка к Эренбургу даже отдаленных издательских выгод не сулила, скорее то была дань уважения человеку, который умудрился держаться в стороне от этого бедлама в Союзе писателей. А там был тот еще бедлам — одна травля Пастернака чего стоила! Многие новоявленные либералы замарали в ней свои имена. Эренбург же редко выступал в печати, а если выступал, то всегда по делу, вызывая вой и негодование сталинских литературных соколов и «черной сотни», которую привел в российскую писательскую организацию Леонид Соболев. Нельзя забывать, что хрущевская оттепель перемежалась такими вьюгами, что мороз по коже продирал.
Итак, дань уважения смелому, независимому человеку… Плюс (и нечего прикидываться дурачками) поездка к Эренбургу повышала наш собственный престиж. Но было еще другое и, пожалуй, главное: мы хотели собственными глазами, вблизи посмотреть на эту странную, загадочную фигуру в советской литературе. Ибо, дамы и господа, Илья Григорьевич Эренбург, еврей, интеллигент, эрудит, вызывающий зубовный скрежет у партийной литературной номенклатуры, ездил по заграницам больше, чем все остальные писательские руководители, председательствовал на международных конгрессах, возглавлял комитеты людей доброй воли в Париже и в Стокгольме, и у Сталина к Эренбургу было особое отношение, а наш Никита Сергеич, не упускавший случая показать писателям «кузькину мать», здоровался с Ильей Григорьевичем за руку. Что же это за чудо природы такое? Можно было строить разного рода догадки, но мы знали одно: бесплатных завтраков не бывает.
Однако когда мы пытались очень вежливо и осторожно коснуться этой скользкой темы, Илья Григорьич легко и элегантно переводил разговор на другие рельсы. Вот тогда я не выдержал и задал хамский вопрос:
— Илья Григорьевич, а как так получилось, что вас не посадили в тридцать седьмом году?
Тут большой соблазн дать ремарку, типа — «Эренбург дернулся, усмехнулся, сверкнул глазами»… Ничего этого я не помню. Вообще, я давно заметил, что у меня память выборочная. Какие-то вещи совершенно стираются, какие-то вещи запечатлеваются, как на кинопленке. В данном случае первый раз за время всего нашего разговора в беседу вступила жена Эренбурга, и они вместе с Ильей Григорьевичем начали вспоминать, как каждую ночь ждали звонка в дверь. И даже когда уже сидели в международном купе поезда, увозившего их через Финляндию и Швецию во Францию, они были в диком напряжении, пока не пересекли советско-финскую границу. А уж потом, когда поезд покатил по заснеженной финской земле, их охватила какая-то безумная радость. Они хохотали, обнимались, открыли бутылку вина. И Эренбург повторял: «В Москве не было никакой логики. Все решал случай. Это как бросать монетку: мог выпасть орел, а могла и решка».
Дальше, кажется, заговорили на чисто литературные темы, и я успел подкинуть любимую мою тогда идейку, что, дескать, после изобретения кинематографа писателям нельзя писать по-старому, надо искать новые формы, иначе кино съест литературу. (Каким я был тогда умным! Все предвидел. Правда, литературу съело не кино, а телевидение.) Тут Эренбург посмотрел на меня внимательно и ответил как будто совершенно невпопад:
— Ну вы понимаете, все тогда решал случай! Все в любой день, в одну минуту могло повернуться по-другому. Впрочем, и сейчас многое зависит от случайностей. Но конечно, не так, как тогда. Хотите, я расскажу вам историю издания моей книги «Французские тетради»?
Тут я понял, что своим вопросом в лоб я задел Эренбурга за живое. И что он на меня обиделся. Но это уже из области психоанализа, на который сейчас нет места. А последующая новелла Эренбурга о «Французских тетрадях» была замечательна. Я запомнил ее почти дословно и далее идет не мой рассказ, а рассказ Эренбурга, я лишь пересказываю его от третьего лица.
1958 год. Разгром московской писательской организации. Дуют свирепые холодные ветры. Леонид Соболев и его шайка торжествуют. Московские писатели каются на трибунах за сборник «Литературная Москва». Эренбург, по каким-то своим причинам, опять впал в немилость, и очень резко по нему прошлась «Литературная газета». В издательстве «Советский писатель» уже год лежит новая книга Эренбурга «Французские тетради». И несмотря на все попытки благосклонных к Эренбургу редакторов, директор издательства Николай Лесючевский категорически отказывается ее печатать.
(Нам не надо было объяснять, кто такой бессменный и могущественный хозяин «Советского писателя» Николай Лесючевский. Какая это сволочь, мы уже почувствовали на собственной шкуре.)
А тут по случаю какого-то праздника прием в Кремле, на который традиционно приглашаются маршалы, министры, ученые и видные представители литературы и искусства. Эренбург приходит на прием, ибо он с давних пор в этом номенклатурном списке. Когда руководители партии и правительства изрядно выпили и закусили, «наш Никита Сергеич», веселенький и довольный, начинает общаться с гостями. За Хрущевым неотступно следует дружное Политбюро. Вдруг Хрущев замечает Эренбурга, быстрым шагом отрывается от товарищей по партии, подходит к Эренбургу, пожимает руку. Они стоят вдвоем, о чем-то разговаривают. Прием продолжается, все пьют и закусывают, но ушлый народ зафиксировал: Хрущев с Эренбургом беседуют о чем-то наедине. Прием продолжается, все пьют и закусывают. Хрущев и Эренбург стоят как бы в сторонке и вот уже пять минут о чем-то говорят. Прием продолжается. Все пьют и закусывают. Однако наблюдается некоторое смятение в рядах членов Политбюро: Хрущев с Эренбургом говорит уже пятнадцать минут. Наконец надвигается мощная волна маршалов, и Хрущев опять доступен для общения с простым людом…