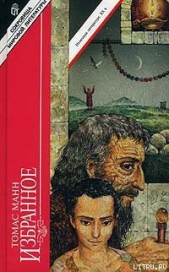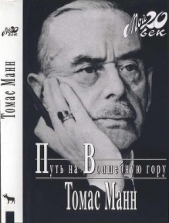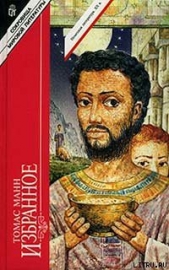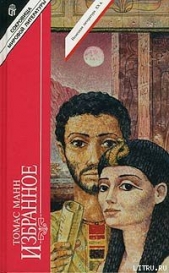На повороте
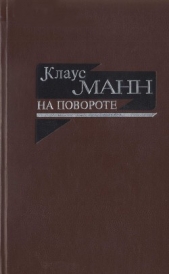
На повороте читать книгу онлайн
Клаус Манн (1906–1949) — старший сын Томаса Манна, известный немецкий писатель, автор семи романов, нескольких томов новелл, эссе, статей и путевых очерков. «На повороте» — венец его творчества, художественная мозаика, органично соединяющая в себе воспоминания, дневники и письма. Это не только автобиография, отчет о своей жизни, это история семьи Томаса Манна, целая портретная галерея выдающихся европейских и американских писателей, артистов, художников, политических деятелей.
Трагические обстоятельства личной жизни, травля со стороны реакционных кругов ФРГ и США привели писателя-антифашиста к роковому финалу — он покончил с собой.
Книга рассчитана на массового читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тем не менее он был расположен к детям и даже ко взрослым на свой мягкий и рассеянный лад. Его педагогика исходила из той предпосылки, что человек в основе своей добр или добру доступен. Призвание воспитателя, как его понимал и пытался реализовать Паулюс, заключается в том, чтобы усилить и развить в каждой индивидуальности ее имманентное добро, этот ее своеобразный закон («Будь тем, кто ты есть!»), одновременно, однако, внушив каждому его зависимость от коллектива, его ответственность перед обществом.
Этот ваятель людей — право, Пауль Гехеб был именно им, если я вообще когда-либо знал такового! — не верил в «вождизм»; более того, он считал, что демократический метод наилучшим образом подходит для установления и удержания необходимого баланса между свободой и дисциплиной. Оденвальдская школа была республикой, в которой власть исходила от народа, это значит от молодых людей, руководитель же довольствовался ролью отеческого советника, посредника и представителя. Школьники, называемые «камерадами», образовывали парламент, которому надлежало решать все важные вопросы общественной жизни. Собрание школьников, или «Школьная община», которая заседала через регулярные промежутки времени, определяла законы и иерархию учреждения; она могла наказывать или даже исключать асоциальные элементы; она имела право модифицировать, даже отменять распоряжения, которые отдавал сам глава.
Ведь могла же когда-то быть такая школа в Германии! Национализм и расовые предрассудки никогда не переставали отравлять общественную жизнь рейха; здесь же, в этом оазисе благонравия, господствовала терпимость. Общество, которое собрал вокруг себя Пауль Гехеб, друг Рабиндраната Тагора и Ромена Роллана, было космополитически пестрое. С одинаковым гостеприимством принимал он сыновей и дочерей промышленников и безденежной богемы. Среди моих «камерадов» были дети вождя французских коммунистов Марселя Кашена {99} и русские эмигранты, похвалявшиеся своим родством с домом Романовых, сын известного берлинского актера, маленькая гречанка поразительной грации, несколько индусов, лучезарно прекрасная итальянка — как сейчас вижу ее перед собой, ее имя было Летиция, — отпрыски голландских кофейных магнатов, австрийских поэтов, китайских ученых и американских банкиров.
Я подружился с тремя берлинскими девочками, одна умнее другой: Ильза играла Баха и интересовалась философией; Ода рисовала гротескные кошмары и красовалась в вычурных одеяниях (мы выступали вместе в танцевальных номерах; я вспоминаю один, где она представляла черта, а я взял себе роль монашенки, которую манит и страшит зло): Ева была универсальным гением. Она хотела стать врачом, но занималась одновременно музыкой, поэзией, живописью, социологией, историей религии. Ева была интеллектуальна до чрезвычайности — в постоянно высоком напряжении мозга, как бы вибрируя от духовной интенсивности.
Мы все были невероятно активные. Я читал девушкам свои вирши, что сопровождалось самыми бурными дискуссиями. Концерты камерной музыки, которые бывали по воскресным вечерам в Гётехаусе, сменяющиеся красоты природы, книги, картины и игры — все стимулировало к жарким разговорам, к страстно ищущим, сверлящим, блуждающим, воспаряющим путаным дебатам. Мы льстили, провоцировали, критиковали друг друга. Старались измерить глубину друг друга — один другого, но прежде всего самого себя. Стремились доказать себе и партнеру собственную исключительность. Ева считала себя гениальной. Ода считала себя гениальной. Ильза восхищалась Евой и Одой, но и саму себя тоже не занижала. (Она играла Баха, изучала философию.) Я восхищался Евой, Одой и Ильзой, придавая, однако, значение тому, чтобы они в свою очередь признавали меня.
Мне было шестнадцать лет. Я писал стихи в свободных ритмах. «Моя песня бури», «Моя песня любви», «Песня о глупости», «Песня о красоте», «Песня о себе самом». Курсы меня не интересовали. (Четкого деления на классы в Оденвальдской школе не было, а была система курсов, так что отдельному ученику разрешалось присоединяться по каждому предмету к той группе, знания которой в данной области соответствовали его собственным.) Паулюс, понимавший мое стремление к одиночеству и приватному чтению, освободил меня от многих учебных часов. Большая часть дня принадлежала мне самому — моим собственным мечтам и размышлениям. Я использовал время, которое было мне столь великодушно предоставлено. Я читал.
Читал я жадно, с энтузиазмом, ненасытно. Между тем это уже не было больше проглатыванием без разбора массы печатных слов, как в ранние годы моей читательской одержимости. Мой вкус развивался в определенном направлении; я начал осознавать собственные склонности и потребности. Я находил своих мастеров, своих богов; я открывал свой Олимп.
Я разглядываю их, святых, демонов моих шестнадцати лет, и не нахожу среди них ни одного, кого бы мне сегодня пришлось стыдиться. Правда, некоторые из этих ранее любимых фигур больше не занимают в моем сердце центрального места, которое тогда в экзальтации первого умиления, первой благодарности я им с такой готовностью уступил. Блеск, который когда-то ослеплял и опьянял меня, мог в некоторых случаях немного ослабнуть, да и прибавлялись другие звезды, сделавшие спорным ценностный ранг первых. Но они все еще светят, солнца моей юности; их огонь, даже если и потерял где в силе, остался чистым. Нет, я не позволил ввести себя в заблуждение обманному свету и искусственному пламени; я не молился ложным богам.
В немеркнущей славе сияет созвездие четырех, которое правило моим небом в это время и которому я охотно доверяюсь и сегодня: Сократ, Ницше, Новалис и Уолт Уитмен {100}.
Я любил Сократа — создателя «Пира» и «Федона», потому что он любил красавиц — ах, с каким лукавством, с тонким почитанием и с отливом иронии! — и потому, что он все знал об Эросе и никак не выдавал своего ужасного знания. Только некоторые намеки и наводящие знаки подавал он нам. Он говорил нам, что Эрос безобразен, некрасив. А также он говорил нам, что Эрос есть некрасивое, жаждущее красоты божество любящего, не любимого. С каким удовольствием я это слушал! Какое горько-сладкое удовлетворение доставляла мне такая мудрость! Я знал, что Сократ говорил правду. Да, Эрос уродлив, не красив. Да, божество у любящего, не у любимого. Прав ли Сократ, и жизнь называя болезнью? Когда ему принесли чашу с ядом, он заметил, улыбаясь, что вот и настало для него время посвятить петуха богу врачевания {101}: «Ибо, друзья мои, я долго был болен». И это тоже правда? Я никогда не переставал задавать себе этот вопрос. И чем дольше пытаюсь я вникнуть в суть его последнего прорицания, тем больше попадаю под чары этого неотразимого демона и лукавого святого, этого великого Любящего и софиста, тем задушевнее я люблю Сократа.
Я любил Ницше, не за его учение (ни «сверхчеловек», ни «вечное возвращение» никогда меня не убеждали), но как художника, как явление. Сначала меня пленил «Заратустра», чей несколько деланный жест стал мне с того времени чужд, почти болезненно неприятен; потом меня обольщали, будоражили, ослепляли «Антихрист», «Падение Вагнера», «Ecce homo» [17]. Воззрения и убеждения, декларируемые в этих книгах с таким назойливым упорством, оставляли меня довольно холодным. Какой колоссальной была та страсть мысли, что обнаруживает себя в столь увлекающих, гибелью окрыленных ритмах и акцентах! Я ощущал озноб почти сверхчеловеческого одиночества, дыхание истребляющего пламени за сверкающей элегантностью поздней прозы Ницше. Зрелище его интеллектуальной страсти, его химер, его крушения определило мое понятие о сути гения. Ему обязана моя юность первыми догадками о сути трагического и о сути демонического. Антитеза между героем и святым предстала для меня в его фигуре, его драме. Он был святым героем, мятежником и мучеником одновременно. Прометей и Христос, Дионис и Распятый. Он был сбывшийся человек. Юность хочет поклоняться, хочет молиться. Образ Ницше всегда был над моей постелью, портрет времени страданий, с трагически омраченным челом, взглядом страстотерпца, уже отсутствующим, вглядывающимся в Ничто, в Бесконечное. Эта наклоненная вперед голова, что общего у нее с белокурой бестией, сверхчеловеком? Се — Сын Человеческий, тот, кто выносит такую муку и такие раны: «Ecce Homo, voila l’Homme!»