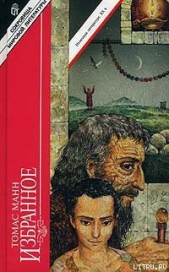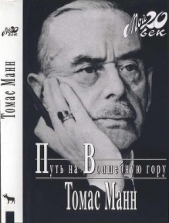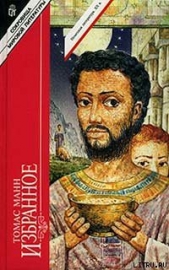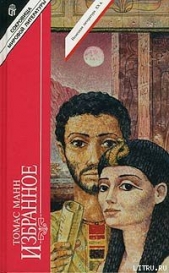На повороте
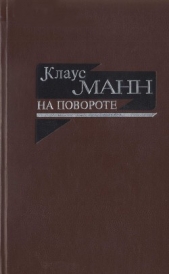
На повороте читать книгу онлайн
Клаус Манн (1906–1949) — старший сын Томаса Манна, известный немецкий писатель, автор семи романов, нескольких томов новелл, эссе, статей и путевых очерков. «На повороте» — венец его творчества, художественная мозаика, органично соединяющая в себе воспоминания, дневники и письма. Это не только автобиография, отчет о своей жизни, это история семьи Томаса Манна, целая портретная галерея выдающихся европейских и американских писателей, артистов, художников, политических деятелей.
Трагические обстоятельства личной жизни, травля со стороны реакционных кругов ФРГ и США привели писателя-антифашиста к роковому финалу — он покончил с собой.
Книга рассчитана на массового читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Другим частым гостем, квартировавшим как в Мюнхене, так и в Тельце, был Ганс Рейзигер {77}, поэт и переводчик, — намного веселее и терпимее, чем ученый-крестный. С Рейзи можно было пойти поплавать и поиграть на лугу, можно было с ним «подурачиться» (он был исключительно одаренный «шут») и можно было заставить его рассказывать о звездах; он знал все их названия и ведал, насколько они удалены — невообразимо, ужасно далеко… Мы любили Рейзи, были всегда любимы им. Он долго принадлежал нам и наверняка остался бы охотно нам верен, если бы люди не затруднили ему это. Нельзя требовать от великодушного и любезного, но ипохондрически-робкого и неустойчивого характера большего, чем он может дать…
Ганс Пфитцнер был лишь другом военных лет, он окончательно отошел, когда мой отец избрал республику. Романтический композитор, респектабельный, хотя и несколько анемичный имитатор немецких мастеров, был оголтелым консерватором, если не сказать махровым реакционером. Духовный контакт между ним и отцом продолжался примерно столько же, сколько работа над «Размышлениями аполитичного». Лучшая, может быть, глава в этой проблематичной книге та, которая трактует пфитцнеровский шедевр «Палестрина». Мы, дети, не очень симпатизировали нервному и язвительному маленькому господину с жиденькой козлиной бородой. Наши герои были другой стати. Вот два Бруно, например: Бруно Вальтер {78} и Бруно Франк {79}.
Бруно Франку, собственно, надлежало бы отвести место среди мифов детства; наша дружба началась, когда мы были маленькими детьми, и он был чудесен. Он покорял нас своим размахом, своим теплом, своими роскошными подарками и веселыми историями. Позднее мы любили его за его книги, которым свойственна та же мужественно-сердечная светскость, какая составляла обаяние его личности. Волшебник и Милейн всегда, когда он бывал у нас, казались особенно оживленными. Его визиты — частые, но нерегулярные, потому что он много путешествовал, — были одновременно задушевными и праздничными. Он был щедрым и жизнерадостным дядюшкой, который еще качал нас на коленях; но к прелести такой старой близости добавлялось и очарование авантюрно-светской эксцентричности. Рассказывали поразительное о его успехах у женщин, о его рискованных ставках за карточным столом в Монте-Карло, Каннах и Баден-Бадене. Иногда он говорил о своих долгах, своих кредиторах — никогда без сердечного гудящего смеха. «Ваш старый дядя Бруно опять сел-таки основательно в лужу», — поверял он нам. Подобные признания необычно услышать от взрослого. Бруно был единственным в своем роде.
Притягательность, которая исходила от Бруно Вальтера, была совсем другого рода, однако не менее неотразима. Великий дирижер был нашим соседом в приветливом квартале вилл, где все знали друг друга. Однако никто не осмелился бы приблизиться к нему, когда он ехал на трамвае к центру города, где располагалось здание оперы. Я вижу его перед собой стоящим, как обычно, на трамвайной платформе, углубившимся в мысли, с чуть бледным, переутомленным лицом под широкополой шляпой, со взглядом, задумчиво устремленным вдаль. Вокруг него было таинственное Нечто, отдалявшее от окружающего, — магическое эхо музыки.
В кругу своих или у нас в гостях он держался сердечно и непритязательно. Он боготворил двух своих дочерей, обеих наших любимейших подружек.
Мы виделись с ними каждый день, они были нам как сестры. Гретель, младшая, моя ровесница, походила на отца; темные выразительные глаза, голос, жестикуляция — все у нее от него, как и музыкальность, проникающая до кончиков пальцев, передавалось походке, улыбке, взгляду человека. Гретель была обворожительна, дика и боязлива одновременно, хрупко-нежная и безыскусная по характеру. Я находился под ее обаянием и ничтоже сумняшеся назначил ее своей первой любовью. В виршах, которые я ей посвящал, я стилизовал ее в жестокую красавицу, подходило это ей или нет. Ей полагалось быть столь же капризной, столь же демоничной, как дамам, от которых страдал юный Генрих Гейне; ибо я тоже желал страдать.
Лотта, слишком взрослая, чтобы рассматривать ее в качестве объекта моих лирических излияний, взяла на себя роль бескорыстной поверенной. Впрочем, я никоим образом не был невосприимчив к нежным прелестям. Если Гретель представляла идеальный тип пикантной брюнетки, то ее старшая сестра, не менее привлекательная, относилась к категории мечтательных блондинок. Обе казались мне безмерно соблазнительными и достойными восхищения, ибо они обладали не только своим собственным очарованием, но и чарами чужого и удивительного мира — мира оперы, симфонических концертов, всей магической сферы музыки и театра.
Музыка была чем-то прекрасным и возвышенным, особенно когда за дирижерским пультом стоял Бруно Вальтер; театр был еще лучше. Но наилучшим из всего была опера — счастливое соединение драмы и симфонии, совершенное наслаждение искусством. Так это казалось нам тогда. В зрелые годы обычно менее склонны признавать музыкальную драму высочайшим эстетическим откровением: но наивный впечатлительный дух с некритическим энтузиазмом реагировал на комбинированный эффект красок и мелодии, синтез балета и трагедии, священнодейства и цирка, чистого чувства и праздничного пестрого бурлеска.
Мюнхенская опера при Бруно Вальтере была первоклассной. Великий капельмейстер собрал вокруг себя ансамбль великолепных голосов: проникновенное сопрано Делии Рейнгардт, несравненное колоратурное сопрано Марии Ивогюн {80}, мощный бас Бендера, благородно-одухотворенный тенор Карла Эрба {81}, звучный баритон Густава Шютцендорфа и много других. Знаменитый институт — один из центров европейской музыкальной жизни во времена Бюлова, Моттля {82} и Леви {83} — переживал свою вторую молодость, поздний расцвет, вероятно последний.
Оба левых угловых места первого ряда всегда были зарезервированы для «господина генерального музыкального директора», и благодаря именно этим привилегированным местам мы смогли присутствовать на множестве великолепных постановок. Блестящий ряд моих ранних оперных переживаний, начинается с «Гензеля и Гретель» {84} — этой любимейшей из всех музыкальных сказок, которая была бы еще более достойной любви без мощных эффектов оркестровки, которую маэстро Хумпердинк, к сожалению, перенял от вагнеровского стиля. Годами мы с Эрикой не могли ответить на вопрос, какой опере отдать предпочтение — «Гензель и Гретель» или «Ундине» {85} Лортцинга {86}, которая была первым оперным впечатлением Эрики. Эрика была очень честолюбива и ревниво отстаивала приоритет «Ундины». Это была ее опера, ее персональное достояние, так же как «Гензель и Гретель» — мое.
«Летучий голландец» принадлежал нам обоим, ибо им мы наслаждались вместе, с воспоминаниями об этом вечере и связано впечатление, что еще и сегодня это раннее, словно бы «предвагнерианское» творение осталось любимейшим из всех вагнеровских опер. Относительно непритязательная, относительно невинная романтика этой драмы и этой музыки — музыки, которая еще не отрекается от своего родства с Лорцингом, Маршнером {87} и Вебером, — действует на меня трогательнее и убедительнее, чем агрессивное величие «Кольца» или нарочитая фольклорность «Мейстерзингеров» {88}. Уже открывающая спектакль сцена очень впечатляет, если хоть сколько-нибудь симпатизировать кораблю призраков и его поющей команде. В мюнхенской постановке зловещий характер судна в высшей степени эффектно подчеркивался обильным использованием голубоватых снующих молний: то, что разыгрывалось на сцене, было своего рода обманчивой зарницей, наблюдать это было крайне волнующе и доставляло наслаждение. Тем больше я жалел бедную Эрику, которая сидела так далеко слева, что из этого призрачного великолепия не могла разглядеть ровным счетом ничего. Естественно, она разразилась слезами — единственная уместная реакция ввиду такого удара судьбы. Когда, однако, Голландец выступил вперед и трогательно оплакал свое несчастье, она скоро забыла про свое.