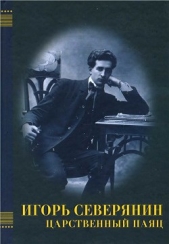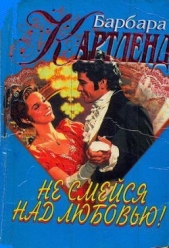Смейся, паяц!
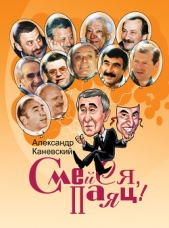
Смейся, паяц! читать книгу онлайн
Александр Каневский – замечательный, широко известный прозаик и сценарист, драматург, юморист, сатирик. Во всех этих жанрах он проявил себя истинным мастером слова, умеющим уникально, следуя реалиям жизни, сочетать веселое и горестное, глубокие раздумья над смыслом бытия и умную шутку. Да и в самой действительности смех и слезы существуют не вдали друг от друга, а почти в каждой судьбе словно бы тесно соседствуют, постоянно перемежаются.В повествовании «Смейся, паяц!..» писателю удалось с покоряющей достоверностью воссоздать Времена и Эпохи, сквозь которые прошел он сам, его семья, близкие его друзья, среди которых много личностей поистине выдающихся, знаменитых.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Хитрый шпион! – приговаривали гебисты. – Ничего дома не хранит!
И вдруг, один из них приподнял крышку поломанного рояля, и все увидели огромное количество бумаг. Вот оно, нашли! Но каково же было их разочарование, когда оказалось, что это – облигации Государственных займов. Верноподданные супруги ежегодно отдавали в долг любимому Государству не по одной месячной зарплате, как было принято, а по три. Пришлось комитетчикам просидеть ещё несколько часов и, проклиная хитрого шпиона, переписывать номера всех облигаций.
Когда Ефима Наумовича арестовали, мою будущую тёщу вызвали в КГБ и потребовали, чтоб она в письменной форме отказалась от мужа-шпиона. Александра Сергеевна заявила, что прожила с ним много лет, знает, что он – не шпион и никогда от него не откажется. Тогда её тоже исключили из партии и уволили из редакции газеты «Колхозное село», где она заведовала отделом. (Оба её брата, главные инженеры двух химических комбинатов, один в Череповецке, другой на Урале, тоже были уволены без объяснения причины.) В их доме жили писатели и журналисты, соратники по партии и по работе. И, как истинные соратники, как только моего будущего тестя арестовали, они сразу перестали общаться и даже здороваться с Александрой Сергеевной. Семья осталась без источников дохода, продавать было нечего, четверо детей, мал мала меньше, были обречены на голод. Спасла их уборщица, которая много лет работала в доме и любила эту семью: каждое утро, рано-рано, она поднималась на лифте к ним на последний, восьмой этаж и ставила под дверь трёхлитровую банку молока или супа и буханку хлеба. И немедленно убегала, чтобы никто не заметил, что она помогает шпионам.
Ефиму Наумовичу дали двадцать пять лет строгого режима, но в лагеря отправить не успели: умер «Отец Народов», и народы стали выпускать из тюрем. Тесть полгода отсидел в Киевском КГБ на Короленко 15, в подземной камере-одиночке, вышел с туберкулёзом и куриной слепотой. Его реабилитировали и он устроился работать редактором на студию Кинохроники. И тут партия выкрикнула новый призыв: «Коммунисты – в отстающие колхозы!». И Александра Сергеевна, чтобы дореабилитировать уже реабилитированного мужа, бросает семью и идёт председателем в самый кошмарный колхоз, который можно было отыскать в Украине: там не было ни света, ни радио, колхозники не получали ни копейки на трудодень, потому что трудодней тоже не было, колхоз задолжал государству более миллиона рублей. Деревня находилась за Днепром, во время паводков связь с внешним миром прерывалась. Алкаши-председатели сменяли один другого, и каждый последующий пропивал всё то, что не успел пропить предыдущий.
Она проработала там три года, спала по четыре-пять часов в сутки, искала пути спасения и находила. Райком заставлял сажать кукурузу, которая здесь не росла, весь чернозём вымывался ежегодными разливами Днепра. Она узнала от стариков, что в давние времена здесь сажали люцерну, собирали по два урожая в год и продавали белорусским крестьянам на корм скоту. Она поехала в Белоруссию, подписала договора и через несколько месяцев колхоз заработал первые деньги. Затем она расчистила заброшенный пруд, пустила туда мальков и стала продавать зеркальных карпов. Узнав, что Государство платит за индеек, намного больше, чем за кур и за уток (индеек тяжело вырастить, маленькие индюшата болеют и умирают, за ними надо очень ухаживать), моя мудрая тёща собрала всех стариков и старух и сказала: «Вы не получаете пенсии, считаетесь нахлебниками. Предлагаю вам возможность помочь семье. Я выдам каждому по двадцать индюшачьих яиц – высидите их на печи и вырастите, корм я вам дам. Когда они подрастут, половину отдадите колхозу, а половина – ваша, я их у вас куплю, получите хорошие деньги – подспорье семье!» Старики радостно согласились – к осени в колхозе появилось «стадо» индеек… Она ещё многое там напридумала, и в итоге, всего через год, после сорока лет Советской власти, в деревне, наконец, зажглась лампочка Ильича, которую колхозники назвали лампочкой Александры. Потом заговорило радио, построили новые коровники, клуб, школу, колхоз отдал все долги и люди стали зарабатывать. Это было не чудо, это был результат необъятной преданности своему делу и беспощадной самоотдачи.
Поставив колхоз на ноги, она вернулась, снова пошла работать в редакцию «Колхозного села» и параллельно училась на вечернем отделении сельскохозяйственной академии: после работы в колхозе решила расширить свои знания в сельском хозяйстве. Ей уже было за пятьдесят. Как она успевала, где брала силы?! Эта женщина за всю жизнь ни разу не была в отпуске, она вообще, никогда не отдыхала, даже будучи беременной, работала до последнего месяца.
Когда я задавал себе вопрос, откуда в Майе столько необъятной доброты и самоотдачи, то сам же на него и отвечал: от матери, от Александры Сергеевны, которая при своей сумасшедшей занятости всегда находила время кого-то проведать, поддержать, помочь, тайком от мужа отрывая деньги от скудного семейного бюджета. Если говорить об идеальных коммунистах, которые в то время уже давно деградировали, то именно она была этой «последней из могикан», образцом трудолюбия, честности и бескорыстия.
Через год после её возвращения из деревни, к ней стали приезжать посланцы из колхоза, как ходоки к Ленину, с мольбой и призывом: «Саня, вернись! Вернись, Саня – он опять всё пропил!» (Это – о новом председателе).
Теперь ещё немного о Ефиме Наумовиче. Подлечившись и отдохнув после заключения, он тоже развил бурную деятельность: помимо редакторской работы на киностудии, стал читать лекции от Общества «Знания» и превратился в крупного политического обозревателя и партийного пропагандиста. За что и был наказан.
Когда ему стукнуло шестьдесят, будучи всю жизнь «номенклатурным» работником, он пошёл оформлять «персональную» пенсию, которая была выше обычной и давала определённые льготы. Вернулся потерянным и подавленным: ему отказали, потому что у него был прерван «номенклатурный стаж», с 1941-го года по 1946-й, то есть, когда он был на фронте. Обескураженный тесть спросил:
– А если бы я не пошёл на войну, то стаж бы не прервался?
– Нет, – ответили ему.
– Значит, если бы я все эти годы провёл в тылу, то…
– То стаж бы сохранился.
Честно говоря, мне его впервые стало жалко: даже он, который всю жизнь мчался впереди всех с красным знаменем в руках, который яростно отстаивал любое решение партии и правительства, на этот раз в растерянности сник перед этим социдиотизмом. И только через несколько лет, его старые товарищи по комсомолу, ставшие теперь большими партийными «шишками», помогли оформить вожделенную персональную пенсию, которая давала ему право ежемесячно получать в закрытом распределителе белую муку, зелёные помидоры и синюю курицу, недоступную для рядовых пенсионеров.
Как ни старалась восстановить его против себя Советская власть, неоднократно преданный ею, он оставался преданным ей. Когда по Телевидению сообщили о том, что Советский Союз ввёл войска в Афганистан, я был в шоке:
– Зачем?! Зачем они это сделали?
– Иначе бы американцы ввели свои войска, – ответил Ефим Наумович, повторив только что услышанные слова диктора. – Партия правильно поступила, – завершил он, надел плащ и куда-то ушёл. Вернулся через час, мрачный.
– Где вы были? – поинтересовался я.
– В военкомате.
– Зачем?
– Просил, чтоб меня направили добровольцем в Афганистан. Они отказали.
Я хотел в ответ рассмеяться или сыронизировать, но взглянув на него, воздержался: он был неподдельно расстроен. Зашоренность этого человека не знала границ. Ему было уже за шестьдесят, но он искренне переживал, что его не взяли воевать за дело партии, которая всегда поступает правильно – он был в этом уверен. И только где-то уже в самом конце жизни, скукожился и притих, потому что всё понял, но, конечно, в этом не признался – такое признание вынуждало перечеркнуть всю его жизнь. И унёс это невысказанное признание в могилу.