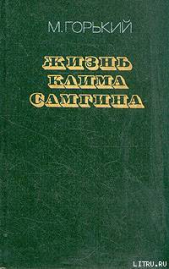Книга о русских людях
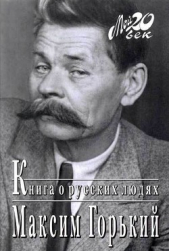
Книга о русских людях читать книгу онлайн
В книгу воспоминаний Максима Горького — Алексея Максимовича Пешкова (1868–1936), — одного из самых знаменитых писателей XX века, вошли его «Заметки из дневника» (поистине уникальный ряд русских характеров — от интеллигента до философствующего босяка, от революционера до ярого монархиста), знаменитые литературные портреты А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Л. Н. Андреева, В. Г. Короленко, С. А. Есенина, С. Т. Морозова, В. И. Ленина (очерк о нем публикуется в первой редакции — без позднейших наслоений «хрестоматийного глянца»), а также прогремевшая в свое время хроника Октябрьской революции «Несвоевременные мысли».
Предисловие, примечания Павла Басинского
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мигнув умирающими глазами, следователь сказал:
— Он сам уничтожил себя, удавился. Как-то необычно, на кандалах, черт его знает как! Я не видал, мне рассказывал товарищ прокурора: «Большая, сказал, сила воли нужна была, чтоб убить себя так мучительно и неудобно». Так и сказал — неудобно.
Потом, закрыв глаза, Святухин пробормотал:
— Вероятно, это я внушил Меркулову мысль о самоубийстве… Вот, батенька, простой русский мужик, а — изволите видеть? Да-с…
Учитель чистописания
…Придя к А.А.Я. — не застал его дома.
— Убежал куда-то, — сказала его квартирная хозяйка, приветливая старушка в роговых очках и с мохнатой бородавкой на левой скуле. Предложив мне отдохнуть, она заговорила, мягко улыбаясь:
— Смотрю я: бегом живете вы, нынешние молодые люди, точно выстрелили вами, как дробью из ружья. Раньше — спокойнее жили и даже походка у людей другая была. И сапоги носились дольше, не потому, что кожа была крепче, а потому, что люди осторожнее ходили по земле. Вот в комнате этой, до Яровицкого, жил учитель чистописания; тоже Алексеем Алексеевичем звали, фамилия — Кузьмин. Какой удивительно тихий человек был, даже странно вспомнить. Бывало, утром проснется, сапоги почистит, брючки, сюртучок, умоется, оденется, и всё тихонько, как будто все люди в городе спят, а он боится разбудить их. Молится, всегда читал: «Господи, владыка живота моего». Потом выпьет стакан чаю, съест яичко с хлебом и уходит в институт, а придя домой, покушает, отдохнет и сядет картинки писать или рамочки делать. Это вот все его рукоделье.
Стены маленькой комнаты были обильно украшены рисунками карандашом в рамках из черного багета; картинки изображали ивы и березы над могилами, над прудом, у развалившейся водяной мельницы, — всюду, ивы и березы. И лишь на одной, побольше размером, тщательно была нарисована узкая тропа, она ползла в гору, ее змеевидно переплетало корневище искривленной березы со сломанной вершиной и множеством сухих сучьев. Глядя на робкие, серые рисунки, старушка любовно говорила:
— Гулять он ходил вечерами, в сумерках, и особенно любил гулять, когда пасмурно, дождь грозит. От этого он и захворал, простудился. Бывало, скажешь ему: «Что вы какое нехорошее время для гулянья выбираете?» — «В такие, говорит, вечера народу на улицах меньше, а я человек скромный и не охотник до встреч с людьми. И частенько, говорит, люди заставляют думать о них нехорошо, а я этого убегаю». Наденет шинельку, фуражку с кокардой, зонтик возьмет и тихонько шагает поближе к заборам; всем, кого встретит, дорогу дает. Очень хорошо, легко ходил он, будто и не по земле. Умильный человек — маленький, стройный, светловолосый, нос с горбинкой, личико чисто выбрито и такое молодое, хотя было ему уже под сорок. Кашлял он всегда в платок, чтобы не шуметь. Бывало, гляжу я на него, любуюсь, думаю, вот бы все люди такие были. Спросишь: «А не скучно вам жить так?» — «Нет, говорит, нисколько не скучно, я живу душой, а душа скуки не знает, скука — это телесная напасть». И всегда он отвечал вот так разумно, точно старичок. «Неужто, спрашиваю, и женский пол не интересен вам, и о семье не думаете?» — «Нет, говорит, я к этому не склонен, семья же требует забот, да и здоровье мое не позволяет». Так, тихой мышкой, он и жил у меня около трех лет, а потом поехал на кумыс, лечиться, да там, в степях, и помер. Ждала я, что придет кто-нибудь за добром его, а, должно быть, не было у скрытого человека этого ни родных, ни приятелей — никто не пришел; так все и осталось у меня: бельишко, картинки эти да тетрадка с записями.
Я попросил показать мне тетрадку, старуха охотно достала из комода толстую книгу в переплете черного коленкора; на куске картона, приклеенном к переплету, готическим шрифтом значилось:
Пища духа.
Записки для памяти
А.А.К-мина.
Лето от Р.Х. 1889-е. Январь, 3.
На обороте — виньетка, тонко сделанная пером: в рамке листьев дуба и клена — пень, а на нем клубочком свернулась змея, подняв голову, высунув жало. А на первой странице я прочитал слова, взятые, очевидно, как эпиграф, тщательно выписанные мелким круглым почерком:
Скоро оказалось, что христиан много, — так всегда бывает, когда начинают заниматься исследованием какого-нибудь преступления.
Из письма Плиния императору Траяну
Далее бросился в глаза крупный и какой-то торжественный почерк, украшенный хвостиками и завитушками:
Я значительно умнее Аполлона Коринфского. Не говоря о том, что он — пьяница.
Почти на каждой странице мелькали рисунки, виньетки, часто встречалось толстое женское лицо с тупым носом и калмыцкими глазами. Записей было немного, они редко занимали одну, две страницы, чаще — несколько строк, всегда выписанных тщательно. Нигде ни одной помарки, всюду чувствовалась строгая законченность, все казалось любовно и аккуратно списанным с черновиков.
Заинтересованный, я унес «Пищу духа» тихого учителя домой и вот что нашел в этой черной книге:
Так называемое искусство питается преимущественно изображением и описанием разного рода преступлений, и замечаю, что чем преступление подлее, тем более читается книга и знаменита картина, ему посвященная. Собственно говоря, интерес к искусству есть интерес к преступному. Отсюда вполне ясен вред искусства для юношества.
Сазана надо фаршировать морковью, но этого никто не делает.
Князь Владимир Галицкий ездил служить венгерскому королю и четыре года служил ему; после чего, возвратясь в Галич, занимался церковным строительством.
Всякое преступление требует врожденного таланта, особенно же человекоубийство.
Ап. Кор. написал, в насмешку надо мною, плюгавенькие стишки. На всякий случай равнодушно записываю их:
Успешное — т. е. безнаказанное — убийство должно быть совершено внезапно.
Тихий человечек записывал любопытнейшие мысли свои разнообразными почерками — ромбом, готическим, английским, славянской вязью и всячески, явно щеголяя своим мастерством. Но все, что касалось убийства, он писал тем же мелким круглым почерком, каким была написана выдержка из письма Плиния Траяну. И можно было думать, что это уже его индивидуальный почерк. Великолепно, ромбом, было нарисовано:
Мышление есть долг всякого грамотного человека.
Славянской, затейливой вязью:
Я никогда не позволю себе забыть насмешек надо мной.
А круглый почерк говорил:
Внезапность не исключает предварительного и точного изучения условий жизни намеченного лица. Особенно важно — время и место прогулок. Часы возвращения из гимназии с уроков. Ночью из клуба.
Две страницы заняты подробным и сухим описанием прогулки в лодках по Волге, затем косым почерком, буквами, переломленными посредине, начертано:
У Пол. Петр, дурная привычка чесать пальцем под левым коленом. Она любит сидеть, закинув ногу на ногу, от этого и чешется под коленом, вероятно, застой крови. Он этого не замечает, дурак. Он вообще глуп. И нехорошо, что она часто спрашивает: «Да что вы?» — это у нее выходит насмешливо. Полина — значит Пелагия, Пелагия — имя, собственно, вульгарное, деревенское.
И снова — круглый почерк:
Уехать из города и неожиданно возвратиться. Сесть на извозчика, — это очень глупо говорят: сесть на извозчика, надо: нанять извозчика. По дороге домой соскочить с пролетки, под видом, будто заболел живот, сбегать, убить и ехать дальше…