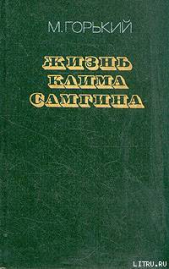Книга о русских людях
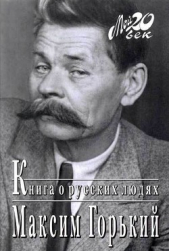
Книга о русских людях читать книгу онлайн
В книгу воспоминаний Максима Горького — Алексея Максимовича Пешкова (1868–1936), — одного из самых знаменитых писателей XX века, вошли его «Заметки из дневника» (поистине уникальный ряд русских характеров — от интеллигента до философствующего босяка, от революционера до ярого монархиста), знаменитые литературные портреты А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Л. Н. Андреева, В. Г. Короленко, С. А. Есенина, С. Т. Морозова, В. И. Ленина (очерк о нем публикуется в первой редакции — без позднейших наслоений «хрестоматийного глянца»), а также прогремевшая в свое время хроника Октябрьской революции «Несвоевременные мысли».
Предисловие, примечания Павла Басинского
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Старик глубоко вздохнул и стал намазывать ложкой варенье на хлеб.
— Гордый вы человек, — сказал я.
Снова приподняв тяжелые мохнатые брови, он пристально посмотрел на меня фарфоровыми глазами, теперь они показались мне особенно пусты и жестко светлы.
— Нет, зачем же! — ответил он, заботливо расправляя бороду, чтоб не испачкать ее вареньем. — Человеку гордиться нечем, как я полагаю.
И, аккуратно отправляя в свой волосатый рот маленькие кусочки хлеба, он продолжал все так же, вполголоса, говоря как бы о человеке чужом, мало приятном ему:
— Так-то-с, молчит господин бог. А тут сразу и подсунулся мне соблазнительный случай: залезли мы ночью на дачу, действуем, — вдруг откуда-то, в темноте сонный голосок: «Дядя, это ты?» Товарищ мой вышмыгнул на балкон, а я присмотрел — вижу: дверь, а за нею кто-то возится. Приоткрыл дверь, а там, в уголку, на кровати лежит мальчонко лет двенадцати и головку руками скребет, длинноволосый такой. И снова спрашивает: «Дядя?» Смотрю я на него, а у меня руки, ноги дрожат, сердце замирает: «Вот, думаю, случай, ну-ко, Степан, ну-ко!» Да вовремя спохватился: «Нет, думаю, на это я не пойду, нет! Может, ты меня, господин бог, всеми удачами к этому греху — к убийству невинного — и заманивал? К этой яме и вел, спокойной-то тропой? Нет, не-ет…» И так эта догадка осердила меня, что даже не помню, каким ходом я ушел и очутился в лесу.
— Сижу под деревом, рядом со мною товарищ папироску курит, ругается тихонько. Дождик кропит нас, по лесу — звонкий шепот, а перед глазами у меня, в темноте, мальчонко этот полусонный, беззащитный, вполне в моих руках. Минутка и — нет мальчика! Хе-х, думаю…
— Это совсем ошарашило меня, с этим я уж никак не мог согласиться и даже сам себя беззащитным мальчиком чувствую. Вы подумайте-ко пристально: вот вы сидите и не можете знать, что я через минуту начну делать, и я не знаю этого про вас. Вдруг, — ведь разное приходит в голову, — вдруг — вы меня, а то — я вас… а? Очень соблазняет эта взаимная беззащитность. И — вообще — кто руководит нами? То-то-с…
— Утром пришел я в город и прямо к судебному следователю: «Извольте меня арестовать, ваше благородие, как я есть вор». Оказался он очень хорошим барином, ласковый, худощавый такой, только — глуповат, конечно. «Почему же, спрашивает, сознаётесь вы, с товарищами поссорились, добычу не поделили?» — «У меня, говорю, товарищей не было, работал один». И, сглупив, рассказал ему подробно, вот как вам говорю, всю историю моего недоразумения и как господин бог злобно играл со мной.
Перебив его речь, я спросил:
— Но почему же, Степан Ильич, бог, а не дьявол?
Старик уверенно и спокойно объяснил:
— Дьявола — нету, дьявол — это выдумка хитрого разума, это люди для оправдания гнусности своей выдумали, а также и в пользу бога, чтобы ему ущерба не нанести. Есть только бог и человек — больше ничего. И все, подобное дьяволу, примерно: Иуда, Каин, царь Иван Грозный — это тоже людские выдумки, это придумано для того ради, чтобы грехи и пакости множеств нагрузить на одно лицо. Уж — поверьте… Хе-х, запутались мы, жулики, и всё выдумываем что-нибудь хуже нас — дьявола и прочее. Плохи, дескать, да — не очень, есть и похуже….
— Так, значит, следователь. Картинки у него на стенах повешены, и кругом домашний уют образованного человека. Лицо — доброе. Однако — доброе лицо ничего не значит, под этой вывеской частенько очень дрянным товаром торгуют. Говорю я ему, а над головой у меня кто-то на рояли барабанит, и так неприятно было слышать это легкомыслие. «Хе-х, думаю, господин бог, как это у вас все нехорошо запутано!» Говорил я долго, следователь слушал меня, как старушка попа в церкви, однако — ничего не понял. «Вас, говорит, конечно, надобно судить, но я ручаюсь, что оправдают вас, если вы все мне сказанное и судьям скажете. И впереди, говорит, у вас не тюрьма, а, по-моему, монастырь!» Обидно стало мне. «Ничего, говорю, вы не поняли, и больше разговаривать не желаю». Н-ну, отправил он меня в полицию, а там пристали ко мне сыщики: «Мы, говорят, знаем, что кражи, в которых ты сознался, не одним тобою сделаны, скажи нам — где товарищи? Затем — иди к нам на службу». Я, конечно, отказал им в этом, а они меня — бить. Голодом морили. Тут я действительно претерпел несколько. Потом — суд. Суд очень не понравился мне, говорить я с ним не пожелал. Рассердились судьи, закатали меня в тюрьму. Сижу в тюрьме, вокруг меня люди, подобные червям и зверям; выбрали они меня старостой. «Хе-х, думаю, плохо все это, господин бог, очень плохо!» Думаю и вижу: как ты ни живи, человечек, никто, кроме тебя, жизнью не руководит! Ну, о тюрьме, как о бородавке, ничего хорошего не скажешь. Вышел из тюрьмы, поглядел туда, сюда, пошатался по земле, стал работать на чугунном заводе, — бросил. Жарко. К тому же чугун, железо и всякий металл не люблю я — от него исходит вся тяжесть жизни, тяжесть, грязь и всякая ржавчина. Без металлов человек был бы проще, жил легче. Совался я в разные дела, даже сортиры чистил, — признаться, тянуло меня на самую грязную работу. Потом — надумал: «Дай-ко пойду в банщики!» И вот уж семнадцать лет мою людей да стараюсь ничем не тревожить их. В тревогах наших толку мало, нет в них толку, если серьезно поглядеть! Живу без бога. Людей жалко, по причине оброшен-ности их, и жить мне — скушновато…
Месяца за два до смерти своей Л. Н. Святухин рассказал мне:
— Из всех убийц, которые прошли предо мною за тринадцать лет, только ломовой извозчик Меркулов вызвал у меня чувство страха пред человеком и за человека. Обыкновенно убийца — безнадежно тупое существо, получеловек, не способный отдать себе отчет в преступлении, или — хитренький пакостник, визгливая лисица, попавшая в капкан, или же — задерганный неудачами, отчаявшийся, озлобленный человечишко. Но когда предо мною встал Меркулов, я тотчас почувствовал что-то особенно жуткое и необычное.
Святухин закрыл глаза, вспоминая:
— Большой, широкоплечий мужик лет сорока пяти, худощавое благообразное лицо, — такие лица называют иконописными. Длинная седая борода, курчавые волосы тоже седы, с висков — лысые взлизы, а посредине лба торчит рогом эдакий задорный вихор, и, несоответственно, противоречиво вихру, из глубоких глазниц мягко и жалостливо смотрят на меня умные серые глаза.
Тяжело выдохнув трупный запах — следователь умирал от рака желудка, — Святухин нервно сморщил измученное, землистое лицо.
— Меня особенно смутило именно это выражение жалости в его взгляде, — откуда оно? И мое равнодушие чиновника исчезло, уступив место очень беспокойному любопытству, новому и неприятному для меня.
— На вопросы мои он отвечал глуховатым голосом человека, который не привык или не любит говорить много; ответы его были кратки, точны, было ясно, что Меркулов готов дать откровенное показание. Я сказал ему слова, которых не сказал бы другому подследственному: «Хорошее лицо у вас, Меркулов, не похожи вы на человекоубийцу».
— Тогда он, точно гость, взял стул, особенно крепко сел на него, уперся ладонями в колени и сразу заговорил, точно — глупое сравнение — на волынке заиграл, у волынки есть такая большая глуховатая дудка, как фагот: «Ты думаешь, барин, если я убил, так я — зверь? Нет, я не зверь, и если ты почуял это, так я тебе расскажу судьбу мою».
— И — рассказал спокойно, обреченно, так, как убийцы не говорят о себе, — не оправдываясь, не пытаясь разжалобить.
Следователь говорил очень медленно и невнятно, его шершавые губы, покрытые серой какой-то чешуей, шевелились с трудом, он часто облизывал их темным языком, закрывая глаза.
— Мне хочется вспомнить его подлинные слова. В них была особенная значительность. Слова поражающие… Этот его жалостливый взгляд на меня тоже подавлял. Поймите: не жалобный, а — жалостливый. Он — меня жалел. Хотя я тогда был еще здоров…
— Первый раз он убил при таких условиях: осенью, вечером вез с пристани сахарный песок в мешках и заметил, что сзади воза идет человек, распорол мешок, черпает сахар горстью и ссыпает его в карманы себе, за пазуху, Меркулов бросился на него, ударил по виску — человек упал. «Ну, я его еще ногой пнул и поправляю распоротый мешок, а человек этот под ногами у меня, лежит вверх лицом, глаза вытаращены, рот раскрыт. Стало мне страшно, присел на корточки, взял его за голову, а она, тяжеленная, как гиря, перекатывается у меня с ладони на ладонь, и глаза его будто подмигивают, а из носу кровь течет, руки мои мажет. Вскочил я, кричу: “Батюшки, убил!”»