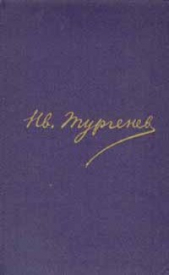Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I
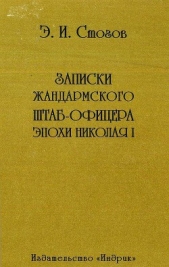
Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мою руку знали. И Дубельт писал мне, что «в общем вышло так юмористично, что читали все и хохотали, а когда я читал шефу, он много смеялся и хвалил мое веселонравие, — оставил у себя» (мы секретно знали, что это значит).
Я уехал в уезд. Позвольте опустить завесу, жандармы хотят знать чужие дела, а свои не рассказывают. Пожалуй, какой-нибудь читатель введет меня в историю, как граф Толстой ввел Загряжского.]
Возвратясь, нашел моего губернатора в постели. Еще более я настращал его князем Дадьяном. По моему описанию, это был крокодил, пантера! В несколько дней до того деморализовал моего Загряжского, что он впал в отчаяние. Наступил момент: все, что я хотел, мог сделал с Загряжским. Публика догадывалась, со всех сторон сыпались ко мне вопросы, но успех мог быть тогда, когда дело было в одних моих руках, без постороннего участия; публика могла испортить весь эффект. Загряжский ужасно обрадовался, когда я взял на себя прекратить все дело с некоторыми пожертвованиями с его стороны. Загряжский соглашался на все безусловно. Я предложил свидание с князем Дадьяном вечером. Загряжский должен был написать под диктовку князя письмо и вручить ему лично. Загряжский опасался, что при свидании князь пырнет его кинжалом, я показал ему мою саблю, отточенную как бритва, и свидание будет при мне. Загряжский соглашался написать какое угодно письмо, хотя на гербовой бумаге, но только бы не видеться; я требовал свидания, и Загряжский согласился на всё.
В 9 часов вечера князь одет по последней моде во фраке. Загряжский в халате исполнял роль больного. Большой круглый стол в гостиной был поставлен недалеко от дверей спальной жены; я поставил Загряжского около стола со стороны и близ дверей — на случай ретирады; на столе письменный прибор. Привел князя Дадьяна и поставил его на диаметр против Загряжского, а сам стал в средине между них. Оба молчат. Я сказал Загряжскому:
— Князь желает продиктовать письмо — угодно вам написать?
— Охотно исполню все!
— Князь, извольте диктовать.
После «Милостивый государь» князь диктовал, процеживая сквозь зубы:
«Дошедшие до вас слова, сказанные мною о княжне Баратаевой, совершенно ложные и, если я сказал, то утверждаю клятвою, что я солгал. Клятвою утверждаю, что ничего подобного не было, и везде, всегда готов подтвердить это. Если ж я осмелюсь повторить мою ложь или без особого уважения произнести имя княжны, то даю право князю Дадьяну везде и во всякое время бить меня по лицу, как бесчестного человека. [Подписываю собственноручно и добровольно — Загряжский]».
Преотвратительно писал Загряжский, а тут стоя, в испуге — еще хуже, и подал князю Дадьяну. Комическая сторона этой сцены выразилась тем: когда диктовал князь, то, поглядывая на меня, улыбался и, подмигивая, показывал на пишущего Загряжского, — понятно, говорил: «Какой дурак!» Загряжский, улыбаясь, подмигивал мне и выражал глазами: «Какой дурак!» А что я думал, стоя между ними? Позвольте умолчать!
Князь Дадьян, прочитав письмо, положил в карман и с полупоклоном молча ушел. Бедная страдалица-жена Загряжского мучилась во все время не меньше мужа. По уходе князя я очутился в роли благодетельного гения, благодарности, чуть ли не молитвы за спасение от бед и напастей. [Успел побывать у князя Дадьяна. Тот унизился до глубокого поклона, даже назвал благородным джентльменом.] Князь Дадьян совершенно удовлетворился [и искренно повторял, что относительно невесты его — все ложь.
На другой день я написал шефу окончание. Не пропуская малейшей подробности. Из всей истории составился фарс, приложил копию глупого письма Загряжского к князю Дадьяну.] Князь Дадьян объяснился с князем Баратаевым и с ожившей для радостей невестой. Мне остается сказать: я там был, мед, пиво пил. Все счастливы, довольны, но конец-то вышел трагический. Чрез три недели указ об увольнении губернатора Загряжского и высочайшее повеление «впредь никуда не определять» [196]. Мой кредит высоко поднялся в Симбирске.
[Ну, чем не повесть, хотя справедливая быль — добродетель торжествует, порок наказан.]
Бывший губернатор Загряжский горько жаловался, что он не знает причины, по которой лишился места, что он так беден, что не знает, как выехать и вывезти семейство (у него была одна дочь [197], которая, если не ошибаюсь, после была женою брата Пушкина). [Зашел я к Загряжскому, он растрепан, в халате, отчаяние полное, плачет он, плачет жена — жалуются оба мне, что не знают причины увольнения и спрашивают меня, не слыхал ли я чего? Просили заступиться перед графом Бенкендорфом. Я отвечал — причин совершенно не знаю, но обещал покровительство.]
Откупщик Бенардаки подарил Загряжскому карету. Добряки дворяне собрали деньги и поручили Бенардаки отдать Загряжскому от своего имени. Уехал Загряжский без проводов.
Вместо Загряжского назначен Жиркевич. В «Старине» есть посмертные записки его; мне приходится сказать о нем, как стороннему зрителю.
После графа Протасова полковник Флиге продолжал в Симбирске; дела ему не было, да едва ли он способен был на дело [198]. Он предполагал что-то начать, все думал начать, но так ничего и не начал; он даже не знал, что я делаю; губернии ему не поручали, а числился он при штабе; может быть, забыли о нем или хотели забыть. За действие при графе Протасове я получил подполковника, а Флиге — Владимира на шею [199]. За что ему? Не знаю! Корпус жандармов избавился от него, сделав его подольским губернатором, где он был — калиф на час. Я же и был на его похоронах в Киеве. Припомнилась мне деятельность Флиге в Симбирске. Пишет ко мне Дубельт и присылает донос на меня от Флиге, [что я все свои донесения пишу на коленях Марьи Петровны. Дубельт добавляет, что «шеф приказал тебе сказать — пиши хоть на брюшке твоей красавицы, только пиши чаще».] Не хотел я показать Флиге его глупости, да и редко с ним виделся.
Так было недавно, с небольшим 40 лет, но, как ни бужу свою память, не могу добиться от нее воспроизведения момента с подробностями, как явился Жиркевич в Симбирск [200], и думаю, едва ли солгу, сказав, что никто этого не знал; как тогда, так и теперь, не сумею объяснить: пешком пришел или приехал Жиркевич? Днем или ночью? Как-то все вдруг узнали, что новый губернатор занимается делами. Говорили в обществе о Жиркевиче так, как будто он давно уже губернатором. Всезнайки рассказывали: когда спросили его, когда он позволит представиться чиновникам? — он отвечает: «Зачем беспокоиться, я с господами служащими познакомлюсь, занимаясь вместе с делами». В губернском городе все знают, кто что ест, о приезжем известно — богат, беден, скучен, весел, играет ли, танцует ли, даже хорошо ли говорит по-французски и проч. О Жиркевиче я не слыхал ни одного вопроса, никто не интересовался и почти не упоминалась фамилия: просто говорили: «губернатор». Я куда-то ездил; возвратясь, немедленно явился к новому губернатору. В зале два чиновника с кипами бумаг; я просил доложить, отвечали: «Не приказано» и указали на отворенную дверь в кабинет. Губернатор у стола, уложенного бумагами, на двух стульях — дела. Только я вошел, Жиркевич встал навстречу мне. Он был больше среднего роста (вершков восьми); правильное и, можно сказать, красивое лицо, но не только серьезное, почти суровое выражение, темно-русые волосы приглажены по-военному; в форменном штатском сюртуке, застегнутом на все пуговицы — видна привычка к военной форме. Жиркевич был сухого сложения, но не худ; поклон, движения мне напомнили воспитание в корпусе; говорил скоро, как-то отрывисто. Пригласил сесть. Думаю, захочет знать о губернии, об обществе. Ничуть не бывало, хоть бы слово спросил, а от кого же узнать, как не от жандарма! Странное впечатление сделал на меня Жиркевич. Он вежлив, но очень молчалив; все вопросы его касались только лично меня. Я попробовал сказать шутку — он не слыхал; я хотел заинтересовать его серьезным — не обратил внимания. Откланявшись, я решительно не мог составить себе понятия о характере Жиркевича. [Мог сказать себе только — посмотрю!]