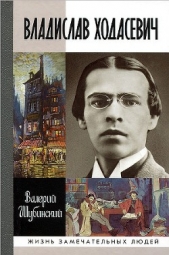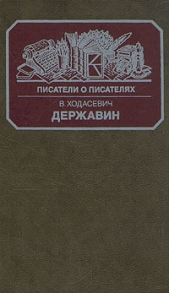Жизнь Владислава Ходасевича

Жизнь Владислава Ходасевича читать книгу онлайн
И. А. Муравьева обратилась к личности Владислава Ходасевича, поэта, резко выламывающегося из своей эпохи. Автор не просто перечисляет жизненные вехи Ходасевича, а пытается показать, как сформировался такой желчно-ироничный поэт, «всезнающий, как змея», видящий в отчетливом, суровом, самосознающем слове последнее прибежище «разъедающей тело» души среди российской «гробовой тьмы» и «европейской ночи». И как этот скептик и циник мог настолько преображаться в своих великолепных книгах о Державине и Пушкине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Семья Ходасевича была не совсем обычной, вернее совсем не типичной для Москвы семьей. Отец Владислава, Фелициан Иванович, был сыном польского (или литовского — Литва была частью Польши) шляхтича, участника восстания 1831 года (в воспоминаниях ошибочно назван 1833 год), после разгрома восстания, как пишет о нем внук-поэт, подавшегося «до лясу» и лишившегося дворянского звания и имения. Тут есть разногласия вспоминающих, а точных документов нет. Валентина Ходасевич, племянница Владислава Фелициановича, пишет, что прадед ее был участником восстания 1863 года, но это менее вероятно, так как к 1863 году ему было, скорее всего, уже больше пятидесяти лет.
Сын его, отец поэта, родился тем не менее в 1834 году в Новогрудке, литовском селении (ныне белорусском городе Гродненской области, районном центре), откуда родом были и Ходасевичи, и Мицкевичи. Считалось, что они в родстве, и что-то общее было в их фамильных гербах. Анна Ивановна Ходасевич-Чулкова, вторая жена Ходасевича, пишет в своих воспоминаниях, что видела документы деда Ходасевича (скорее всего, у старшего брата Владислава, Михаила) и на них — дворянский герб: лев, стрелы и еще какие-то атрибуты на ярко-синем с золотом фоне. И что фамилия деда была Масла-Ходасевич. Это существенно: Владислав Ходасевич не раз подписывал свои небольшие рецензии псевдонимом Ф. Маслов. В Новогрудке находится в настоящее время музей Мицкевича, но в музее нет никаких сведений о роде Ходасевичей. Фамилия Ходасевич в сочетании с именем Иван, как у деда, попалась мне в Придворном адресе-календаре (месяцеслове с росписью) за 1827 год. Иван Петрович Ходасевич числился аудитором 9 класса в Главном штабе Его Императорского Высочества Цесаревича, то есть Константина Павловича. Но это, скорее всего, однофамилец — слишком незначительна интендантская должность, да и жил дед нашего поэта не в Варшаве, а в Новогрудке.
Фелициан Иванович значился уже мещанином, а не дворянином (равно как и его сын Владислав). Был он приписан ко Второй московской купеческой гильдии, но разорившись в 1902 году, был оттуда выключен. Нес он в своей душе мечты несостоявшегося художника — учился в Петербургской Императорской Академии художеств, в мастерской исторической живописи Федора Антоновича Бруни. В какие годы — неизвестно, в списках учеников Академии, занимавшихся в мастерской Бруни, в наиболее вероятные годы его обучения он не значится. Позже, возвратясь на родину, в Литву, расписывал церкви, но стать настоящим художником так и не смог — таланта не хватило.
Владислав написал об отце уже в эмиграции, в 1928 году:
Позже, поселившись окончательно в России и видя, что семью своими художественными трудами ему не прокормить, Фелициан Иванович занялся фотографией. Семья жила одно время в Туле, и там в его ателье не раз фотографировалась семья Толстого: Софья Андреевна с детьми; эти фотографии хранятся в музее Льва Толстого. Перебравшись в Москву, Фелициан Иванович открыл торговлю фотографическими принадлежностями. Его магазин находился в доме Михайлова на Дмитровке. Но в свободное время он продолжал заниматься живописью: писал копии с собственной же копии, сделанной в Румянцевском музее с картины «Коперник» художника Яна Матейко, или же натюрморты с натуры: «бездарную вазочку с воткнутым в нее одним или двумя цветами — любил нарциссы и веточки сирени», — так отзывалась о его живописи непочтительная внучка, Валентина Ходасевич. В доме его все-таки пахло красками и лаком — неистребимый, тревожащий запах его юности.
Художественная стихия продолжала бушевать в крови Ходасевичей. Старший сын Фелициана Ивановича Михаил тоже мечтал стать художником и лишь после строжайшего запрета отца и даже порки(!), сопровождаемой эксцентричной выходкой: отец гнал сына на чердак и бросал ему веревку со словами: «Иди и там удавись — я не хочу пачкать руки!» — поступил на юридический факультет Московского университета. Он был впоследствии известным в Москве адвокатом, несмотря на то, что с тех, «чердачных» времен его мучила тяжелая болезнь — эпилепсия, так что в поездках, связанных с адвокатской практикой, его часто сопровождала жена. Зато художницей стала его дочь Валентина…
Фелициан Иванович женился на Софье Яковлевне Брафман, еврейке, крещенной в католичество. Ее отец, Яков Алексеевич Брафман (около 1825–1879), принявший сначала протестанство, а затем — православие, был автором нашумевших книг «Еврейские общины: местная и интернациональная» и «Книга кагала», в которой рассматривалась проблема угнетения бедных евреев богатыми на юго-западе России, приводились переводы кагальных актов, как утверждают, с большими искажениями, с неправильным их толкованием — из-за непонимания текстов, незнания формул еврейского права. Кроме всего прочего, «Книга кагала» напечатана была уже тогда, когда кагалы не существовали — они были упразднены в 1844 году. Считалось, что «Книга кагала» послужила оправданием погромов и повела к развитию антисемитизма.
Яков Брафман, сын раввина, рано осиротел и в юности боялся, что кагал сдаст его в кантонисты, все время переезжал с места на место. Может быть, именно этим затаенным с юности озлоблением и страхом перед всесильным кагалом и были вызваны его разоблачительные книги; возможны тут, конечно, и карьерные соображения. Во всяком случае, он хотел вырваться из своей среды на волю, зажить другой жизнью.
Он получил дворянство при Александре II, которому подал в 1858 году, при проезде императора через Минск, записку о евреях, и был вызван после этого в Сенат. Но его внук, Владислав Ходасевич, как уже говорилось и как явствует из документов, принадлежал к сословию мещан по отцу. Потом Яков Брафман преподавал древнееврейский язык в Минской духовной семинарии.
Что произошло в отношениях Брафмана с женой, доподлинно неизвестно; дочь, Софья, росла без матери и воспитывалась в семье из знатного рода Радзивиллов, а по другим сведениям, в католическом пансионе. Видимо, отец Владислава познакомился с ней в Литве. Впоследствии бабушка Владислава мирно доживала свою жизнь в семье дочери.
Мать Владислава в раннем детстве заложила в его душу неясные мечты о родине — Польше, связанной каким-то непонятным для ребенка образом одновременно с Богом и с Адамом Мицкевичем.
Каждый день утром, после чаю, мать уводила его в свою комнату, где обычно молилась. Над кроватью висел большой образ Божьей Матери Остробрамской в золотой раме. На полу лежал коврик, и солнечные лучи косо пересекали его. Мать научила мальчика читать молитвы по-польски. Став на колени на этот коврик, он читал «Отче наш», потом «Богородицу», потом «Верую». После молитвы мать рассказывала сыну о Польше, о ее красивых островерхих домах с черепичными крышами, ее высоких, вытянутых к небу готических храмах. Иногда она читала стихи — это было чаще всего начало поэмы Мицкевича «Пан Тадеуш»; об этом он вспоминал в 1934 году в статье «К столетию „Пана Тадеуша“».
«Всякий раз после того, как герой <…> только что вылез из повозки, побежал по дому, увидел знакомую мебель и часы с курантами и с детской радостью
мать начинала плакать и отпускала меня.
Эти стихи я знал почти наизусть, многого в них не понимая, — и не стремился понять. <…> Я никогда не видел ни Мицкевича, ни Польши. Их также нельзя увидеть, как Бога, но они там же, где Бог: за низкой решеткой, обвитою красным бархатом, в громе органа, в кадильном дыму и в золотом, страшном сиянии косых лучей солнца, откуда-то сбоку падающих в алтарь. Алтарь был для меня преддверием или даже началом „того света“, в котором я был, когда меня не было, и буду — когда меня не будет.