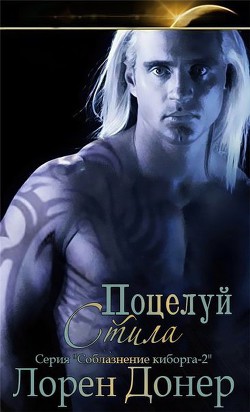Разрозненные страницы

Разрозненные страницы читать книгу онлайн
Рина Васильевна Зеленая (1902–1991) по праву считается великой комедийной актрисой. Начинала она на подмостках маленьких театров Одессы и Петербурга, а когда открылся в Москве Театр Сатиры, ее пригласили в него одной из первых. Появление актрисы на сцене всегда вызывало улыбку — зрители замирали в предвкушении смешного. В кино она играла эпизодические роли, но часто именно ее персонажи более всего запоминались зрителям. Достаточно назвать хотя бы такие фильмы, как «Подкидыш», «Весна», «Девушка без адреса», «Каин XVIII», «Дайте жалобную книгу», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Здравствуйте, Рина.
Трудно поверить: ведь с тех пор, как я научилась читать, я видела его портрет и имя среди других — Некрасов, Толстой, Чехов. У моих родителей в шкафу за стеклом стояли классики — бесплатное приложение к журналу «Нива», — там они все стояли рядом. Присылали сами книги отдельно, а их голубые, коричневые, зеленые с золотом переплеты — отдельно. Их полагалось переплетать, но наша мама этого не делала. Книжки просто вкладывались в переплеты и стояли в шкафу рядами. И было как бы все в порядке. Когда я добралась до них, то, конечно, стала вытаскивать книжки из переплетов, читала, а потом вкладывала в продолжавшие стоять на полке переплеты, нисколько не беспокоясь, что в Чехова мог попасть Некрасов. А томики стояли в шкафу — «как у людей».
И вот входит Горький (как если бы вдруг вошел Достоевский или Лермонтов) и сел за стол. Ему наливает чай Надежда Алексеевна. И мне. Мы сидим за столом и разговариваем. Потом, немного погодя Алексей Максимович говорит:
— Тимоша, — так он называл Надежду Алексеевну, — может быть, Рина расскажет нам то, что она читает о детях?
— Конечно, Алексей Максимович, — отвечаю я, — если вы хотите.
И я собираю все актерское самообладание. Читать в переполненном Колонном зале или в Политехническом актеру легче, чем перед пятью, десятью или одним человеком, который смотрит на тебя в упор, не давая возможности забыть, что ты — уже не ты, а четырехлетний человек, который беседует со взрослым.
И вот я, забыв обо всем, как всегда на сцене, читаю Горькому крохотные новеллы. Это были почти первые мои записи о детях. Алексей Максимович слушал внимательно и растроганно. Читала я хорошо, и чистый мой детский голос звучал правдиво и трогательно. Я рассказывала еще и еще. Алексей Максимович смеялся от души, и несколько раз слезы навертывались на его голубые глаза. Он удивлялся, что ни разу не слышал меня на сцене, хотя несколько раз бывал на концертах.
И тут я, к сожалению, вспомнила совершенно некстати, что мне рассказывали о восторженном отзыве Горького в газете об одной немецкой эстрадной актрисе, Tea Альба, которая гастролировала в Москве. В те годы очень часто в программы включались иностранные номера. Приезжали танцоры, певцы, фокусники, акробаты. И вот в одной из программ был такой необычный номер. На сцене стояла большая черная грифельная доска, а исполнительница, взяв в обе руки по куску мела, под музыку писала на ней двумя руками сразу совершенно разные тексты по-русски и по-немецки одновременно. Это было очень эффектно, и неожиданно, и шикарно. И сама она — пышная, эффектная и белокурая.
А мы-то все, наши актеры, выдумывали, бились над каждым номером, а нам говорили: «Нет, не годится. Нет, это мелко, типичное мелкотемье. Это — нельзя, это — безыдейно, это — не пойдет». Какие уж тут грифельные доски. И в прессе, бывало, кроме ругани, не найдешь ни слова доброго о нашей эстраде в те времена.
Конечно, номер немецкой актрисы был отличный, производил впечатление. Техника — удивительная, придумано остроумно и делалось с блеском, почти как фокус. Но получить такую высокую оценку в газете — от кого? От Максима Горького!
И вот тут, когда мне нужно было хорошенько промолчать, я сказала, что совершенно не нахожу в этом номере ничего прекрасного. Разумеется, удачная находка, блестящая техника — да. Техника, память и техника. Но этому можно научиться, талантом это назвать нельзя. Тимоша смотрела на меня удивленно: что это я несу? с кем спорю? Я все-таки замолчала.
Теперь необходимо сказать, что, когда в детстве я читала сказки, а я их читала всегда, я твердо верила в существование фей и волшебников, никогда никаких сомнений в этом не появлялось. И каждый раз меня бесило, что ни один герой в сказке не мог толком ответить, чего именно он хочет, какие у него три желания. Каждый раз какая-то чушь получалась.
И вот, во избежание подобного случая со мной, у меня всегда было заготовлено три желания, чтобы не растеряться, когда спросят. Желания менялись время от времени, но я всегда помнила о них. Была полная уверенность, что когда-нибудь меня про это обязательно спросит знакомая фея. Но и со мной произошло все так, как полагается в сказке.
Алексей Максимович, сидя рядом со мной, спросил:
— Ну, Рина, скажите-ка мне, что же я могу для вас сделать хорошего?
Спросил так просто, как полагается в сказке: ну, говори, какие у тебя три желания?
И тут я, не нарушая законов сказки, сказала, как простодушная сказочная дурочка, что у меня все хорошо, лучше быть не может, ничего мне не надо. А как раз в это время было много непреодолимо ужасного: театр выгоняли из Дома печати, и пока еще не было нового помещения, и надо было, чтобы кто-нибудь заступился, замолвил словечко; мы с мамой и сестрой ютились в какой-то полуподвальной комнатенке; а еще были временные затруднения с едой, в магазине нечего было купить, все шли в торгсин, сдавали разное серебро или золото и получали талоны на продукты, а у нашей мамы ничего быть не могло.
Но в эту минуту я забыла обо всем, все казалось необыкновенно прекрасным: я сижу рядом с Горьким, могу дотронуться до него рукой. Чего еще можно хотеть? О чем просить? Все будет хорошо, и так все обойдется.
Когда я уходила — Крючков вез меня домой, — Алексей Максимович сказал мне, что удивлен моей смелой идеей: со сцены рассказывать взрослым о детях, что на это еще никто не решался — говорить от лица ребенка так, чтобы зрительный зал поверил. Еще он сказал: «Когда искусство, показывая жизнь, вносит в нее каплю вымысла, оно делает изображаемое более правдивым, чем сама жизнь».
Судьба позволила мне еще несколько раз встречаться с Алексеем Максимовичем. Я бывала в доме на Малой Никитской (сейчас улица Качалова, а Качалов тогда шел по Тверской, которая еще не была улицей Горького; он шел, выделяясь среди толпы, и люди оборачивались на это создание природы, на высокую его, статную фигуру, гордую голову с добрыми глазами, в которые хотелось смотреть, чтобы понять, как он думает о тебе, обо всем; Качалов шел в свой Брюсовский переулок — переулок назвали именем Брюса, сподвижника Петра, теперь этот переулок стал улицей Неждановой, во-первых, а во-вторых, мне никогда не понять, почему нужно называть переулок улицей и зачем).
А Горькие жили, значит, на Малой Никитской, угол Гранатного переулка (сейчас улица Щусева). Этот удивительно красивый особняк (архитектор Шехтель, тот, что делал здание Художественного театра) был предоставлен Алексею Максимовичу. Особняк и его интерьеры я рассматривала всегда с неослабевающим интересом: и комнаты, и знаменитую лестницу на второй этаж.
Здесь жила большая семья Пешковых: и Максим, и Надежда Алексеевна, и их дочери Марфа и Дарья, и медсестра Липочка, всю жизнь находившаяся при Алексее Максимовиче, и Соловей — художник Ракитский.
В громадной столовой — бесконечно длинный стол, за которым могло поместиться человек сто. Здесь по праздникам, особенно в день именин Надежды Алексеевны, собиралась масса народу. «Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья» — знаменитый день 30 сентября праздновали все во всех уголках и закоулках Москвы. А цветы тогда продавали на всех углах страшно дешево. Ими торговали старички и старушки, которые выращивали эти цветы на своих крохотных участочках. И каждый человек за три тогдашних рубля (сегодня — тридцать копеек) мог купить и розы, и ромашки, и георгины, и левкои, и махровые астры — сколько мог унести. Запрет на старичков и старушек произошел, по-моему, в 50-е годы, и цветы переехали только в киоски, всегда полупустые, со злыми дамами — продавщицами-девушками. Сейчас жалко смотреть на мужчин, которые стоят больше часа в очереди, чтобы «получить» три дохлых гвоздики — из них одна обязательно сломана, — но зато они завернуты в целлофан, как селедка. Верю, что вновь цветы будут продавать в Москве на всех углах, кто только захочет, как в Одессе, Ростове, Сочи и других городах Союза.
30 сентября масса людей бывала у Пешковых за длинным, великолепно убранным столом. Екатерина Павловна, Надежда Алексеевна и Липочка — тоже член семьи — умело и красиво не только готовили все пироги, и пирожки, и печенья, и соленья, но еще и стол накрывали так, что он являл собою воплощение праздника, вкуса и изобилия. Восхищались все: и Самуил Яковлевич Маршак, и Всеволод Иванов, и старые большевики, и молодой Ираклий Андроников.