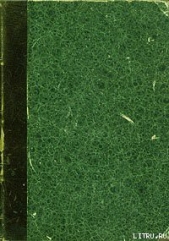Повести моей жизни. Том 1

Повести моей жизни. Том 1 читать книгу онлайн
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конечно, мы не были гермафродиты, и семейные инстинкты и влечения, без которых человек, будь он мужчина или женщина, становится простым нравственным и физическим уродом, были и у нас, как у всех нормально развитых людей. Но идейная сторона совершенно обуздывала у нас физическую. Мы все сознавали себя людьми, обреченными на гибель, и семейная жизнь с ее радостями казалась созданною не для нас. Когда я мысленно заглядываю в этот период своей жизни, я нахожу среди окружавших меня лиц не одну влюбленную парочку, и большинство из них, в конце концов, завершали свои влюбленные отношения браком. Природа рано или поздно брала верх над убеждениями, и конфликт между разумом и сердцем часто завершался совершенно оригинальным образом. Влюбленная парочка по-прежнему держалась мнения, что супружеское счастье не для нее, но она сознавала, что ее будущее, очевидно, страшно хрупко. Первый донос политического врага или простая болтовня какого-либо малодушного приятеля — и оба влюбленные окажутся надолго разлученными друг с другом тюрьмой или ссылкой.
Необходимо было иметь возможность навещать друг друга в заключении или сопровождать друг друга в ссылку и на каторгу. И вот, хотя ни тот ни другая не верили в церковные таинства и от всей души ненавидели притворство и лицемерие, оба решали обратиться к священнику, чтобы повенчаться так называемым фиктивным браком, т. е. быть по внешности мужем и женой, но оставаться на деле в братских отношениях. Этот способ брака казался особенно удобным еще и тем, что устранял для робких трудность предварительного объяснения в любви.
В результате же всегда происходило то, что после нескольких недель фиктивного сожительства парочка оказывалась в настоящих супружеских отношениях.
Я рассказываю здесь всю свою жизнь с ее радостями и печалями, с успехами и неудачами, и это не потому, чтоб я придавал ей особенно важное значение. Моя цель другая. Мне хотелось бы описать внутреннюю, интимную, идеалистическую сторону революционного движения в России и его романтическую подкладку, притягивавшую тогда к нему с непреодолимой силой всякую живую душу, приходившую в соприкосновение с его бескорыстными деятелями.
Конечно, в движении участвовали люди всевозможных характеров. Отличительными чертами одних была скромность и самоотверженность, у других обнаруживались и честолюбивые черты после первого периода бескорыстного увлечения. Одни сознательно обрекали себя на гибель, а другие надеялись на успех и даже мечтали о выдающейся роли в новом строе жизни. Но все, в общем, жили той же самой жизнью, как и я, а потому, рассказывая о себе, я этим самым даю характеристику интимной жизни очень многих, по крайней мере тех, к кому я был особенно близок.
У большинства моих товарищей того времени не было честолюбия, и потому всякое главарство казалось нам очень несимпатичным.
— Зачем я буду посылать других на всевозможные опасные и героические дела, когда сам могу в них участвовать? — думалось мне часто, и я никак не мог даже и представить себе иного отношения к делу.
Когда, после закрытия мастерской, мне предложили, ввиду незаподозренности моего положения и больших знакомств, остаться на лето вместе с Алексеевой в Москве для того, чтобы мы служили центром, через который все остальные, ушедшие в народ, могли бы сноситься друг с другом, я начал отбиваться от подобной ужасной перспективы и руками и ногами.
— Ни за что не останусь ни недели, — говорил я. — Если нельзя идти с кем-либо из вас, я все равно уйду один...
Увидев, что мое решение неизменно, придумали наконец отправить меня в Даниловский уезд, в имение помещика Иванчина-Писарева, где больше года уже велась пропаганда в деревне. На это я сейчас же согласился и, совершенно того не подозревая, попал на самое крупное и самое успешное из всех бывших когда-либо предприятий революционной пропаганды среди крестьян. Ничего подобного не было ни до, ни после него во все время движения семидесятых годов.
В первых числах мая мы с Саблиным уже мчались по Ярославской железной дороге и, пересев на Вологодскую, высадились на станции Дмитриевской. Мы были одеты в рабочие костюмы, с крестьянскими паспортами в карманах. Помню, что во время пути меня особенно беспокоила мысль, как бы мне не забыть своего имени, какого-то Семена Вахрамеева, если не ошибаюсь. Однако все прошло благополучно, и при вопросах: «Как тебя зовут?» — случавшихся во время дороги раза три или четыре, я, нимало не колеблясь, отвечал:
— Семен Вахрамеев!
Саблин же, отличавшийся большой склонностью к комизму, все время пути балагурил с соседями и рассказывал им о нашей жизни и работах в Москве всевозможные небылицы. Когда, нанявши тележку на станции, мы подъезжали через час или полтора к помещичьей усадьбе Потапово, лежавшей особняком на опушке елового леса и еще издали указанной нам возницей как место нашего назначения, Саблин до того развеселил этого серенького деревенского мужичка всевозможными юмористическими замечаниями и прибаутками, что тот то и дело хватался за ободок своей телеги, чтобы не свалиться с нее от смеха.
— Небось, шибко жирен ваш барин? — спрашивал Саблин.
— Не-е! — отвечал наш возница, заливаясь смехом. — Барин хороший, тонкий.
— Вишь-ты, обещал нам важный заработок. Не знаем только, не надует ли.
— Нет, этот не надует. Зачем надувать?
Прибытие наше было объяснено ему тем, что барин, нуждаясь в хороших мастерах для обучения крестьян в устроенных им столярных мастерских, послал за нами в Москву и обещал хорошо платить.
На крыльце усадьбы нас встретил белокурый человек лет двадцати пяти в сером пиджаке с небольшой рыжеватой бородкой. Это и был Иванчин-Писарев.
Он весело поздоровался с нами, как со знакомыми, так как его уже предупредили письменно о нашем приезде, ввел в гостиную, убранную очень просто, и представил своей жене, тоже белокурой молодой женщине маленького роста, с веснушками на лице.
Затем, осмотрев наши особы и платье, он засмеялся и сказал:
— Это, господа, здесь не годится! Вас все узнают с первого же взгляда, потому что у меня многие из крестьян слышали, что студенты идут в народ. Нужно переодеться в обычные платья!
— Но у меня уже нет никакого другого, — ответил я.
— Это пустяки! — возразил он. — Мы почти одинакового роста, и у меня найдется достаточно лишнего платья.
И вот мы пошли в его спальню, где я снова превратился почти в то самое, чем был ранее. Только чистить мои сапоги и платье было уже некому, кроме меня самого, потому что, за исключением кухарки, горничной и работника по хозяйству, в усадьбе не было никакой прислуги.
Такое же обратное переодевание Писарев сделал, к моему облегчению, и с Саблиным.
— Напрасно думают, — говорил он при этом, — что для деятельности в народе нужно непременно переодеваться мужиком. В своей среде крестьяне слушают с уважением только стариков да отцов семейства. Если молодой, неженатый, и особенно безбородый, человек начнет проповедовать им новые идеи, его только высмеют и скажут: «Что он понимает? Яйца курицу не учат». Совсем другое, когда человек стоит несколько выше их по общественному положению, тогда его будут слушать со вниманием.
Его слова шли настолько вразрез с тем, что говорилось и делалось вокруг нас в столицах, что мы оба сначала не знали, что и подумать. Однако очевидная справедливость их била мне в глаза и вполне соответствовала тем представлениям, какие я составил себе о крестьянах того времени. Притом же перед нами был не теоретик революционной пропаганды, а практик, уже более года работавший с успехом в народе.
— Нет ничего лучше положения помещика средней руки в своем собственном имении, — продолжал он рассуждать, — или писаря в своей волости, или учителя, уже прожившего некоторое время в деревне и заслужившего доверие окружающих крестьян. Что же касается до этого, — добавил он, показывая на мой новый костюм франтоватого рабочего, — то такое платье самое удобное для нашей местности. Здесь большинство уходит на заработки в Петербург или Москву и возвращается в совершенно таком же виде. Ничто не мешает вам надевать этот костюм по временам, когда будете ходить к знакомым крестьянам в гости. Но ни в коем случае не следует выдавать себя здесь за простого чернорабочего.