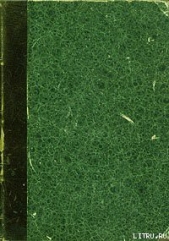Повести моей жизни. Том 1

Повести моей жизни. Том 1 читать книгу онлайн
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всевозможные мысли и чувства такого рода сразу нахлынули на меня и скучились в моей голове в те критические три или четыре дня моей жизни. Наконец совершился перелом. Несколько дней я ни разу не ходил к моим новым друзьям-революционерам и вдруг почувствовал, что больше я не в состоянии их не видеть. Но видеть их — значило идти с ними, другого выхода я не мог себе представить. Дождавшись утра, я оделся, как обыкновенно, сел, как обыкновенно, пить чай с Печковским, которого я уже познакомил с Алексеевой, и сказал ему, что в последние дни я много передумал и решил идти в народ со своими новыми товарищами.
— Я это знал, — ответил он, и мне показалось, что на его глазах навернулись слезы.
Еще ночью я решил раздать товарищам по гимназии мои коллекции и имущество, чтобы ничто меня более не удерживало по эту сторону жизни, а книги отдать для основания тайной библиотеки.
Напившись грустно чаю, мы встали и начали упаковывать мое имущество, распределяя, что кому отдать. Я раздал все, даже белье и платье, оставив себе только кошелек с деньгами, часы и револьвер, потому что для чего мне было теперь остальное?... Родным я решил ничего не писать.
«Ведь столько людей тонут, проваливаются в землю и вообще исчезают без вести! Пусть думают, что погиб и я».
Затем с другим товарищем, Мокрицким, сыном одного из московских художников, я пошел в какие-то ряды подобрать народный костюм и прежде всего начал выбирать самый грубый.
— Тебе нельзя одеваться в подобное платье, — сказал Мокрицкий. — Возьми самый лучший из рабочих костюмов, а то будет слишком резок контраст с твоей физиономией.
Я согласился с этим, и мы выбрали суконный жилет с двумя рядами бубенчиков вместо пуговиц, весело побрякивавших при каждом моем шаге, несколько ситцевых рубах и штанов, черную чуйку, фуражку и смазные сапоги необыкновенно франтоватого вида: верхняя часть их представляла лакированные отвороты, на которых были вышиты круги и другие узоры синими и красными нитками.
Затем, заметив, что мои волосы острижены не по-народному, мы пошли к Мокрицкому. Усадив меня под картиной какой-то нимфы, работы своего отца, он постриг мои волосы в скобку, как у рабочих, а шею под скобкой начисто выбрил отцовской бритвой. Потом намазал мне волосы постным маслом и расчесал их прямым пробором на обе стороны. В этом костюме и виде я тотчас же явился в нашу сапожную мастерскую и, ранее чем окружающие успели опомниться, заявил им прямо:
— И я решил тоже идти в народ!
Алексеева, сидевшая посреди остальных на деревянном обрубке и рассмеявшаяся сначала при виде моего переодевания, взглянула на меня при этих словах как-то особенно, и мне показалось, что на лице ее выразился испуг... Но, тотчас же вспомнив про свои убеждения, она встала и, протягивая мне обе руки, сказала:
— Как это хорошо с вашей стороны!
Остальные все тоже повскакали со своих мест. Санька Лукашевич первый, осмотрев меня со всех сторон с критическим видом знатока, вдруг рассмеялся и сказал:
— Черт знает что такое! Взглянешь сзади — настоящий рабочий, а взглянешь спереди — переодетая мужичком актриса.
Я тоже смеялся и повертывался во все стороны, давая рассмотреть свой костюм во всех подробностях. Затем я сейчас же выбрал себе колодку и кожу и под руководством нашего мастера с величайшим усердием принялся вставлять щетину в дратву и шить свой первый крестьянский башмак.
О только что розданном имуществе и обо всем, пережитом мною в последние дни, я никому ничего не сказал.
4. Первое путешествие в народ
Прошло три недели. Апрель кончился. Работы в мастерской продолжались ежедневно, пока не начинало смеркаться. Они сменялись время от времени разговорами, пением «Бурного потока» и множества других песен, которые знала Алексеева, учившаяся после института еще в консерватории, и звонкий ее голос будил эхо во всех углах. По временам все пели хором:
И когда доходили до куплета:
мое сердце так и прыгало от радости.
Пели по временам и песни юмористического характера, как, например, известную бурлацкую «Дубинушку», переделанную Клеменцем на радикальный манер и вызывавшую всегда взрывы смеха [30].
Успехи большинства в работе оказались совсем не блестящими, далеко ниже среднего уровня. Многие, при первом предлоге к разговору, оставляли, не замечая того, свои колодки и предавались, вместо работы, спорам о грядущем общественном строе, основанном на равенстве, братстве и свободе, или обсуждению своей собственной будущей деятельности. Заметив через некоторое время, что они ровно ничему не научились, многие начали разочаровываться в самом предмете и говорили:
— К чему нам учиться шить сапоги и башмаки, когда весь народ ходит босой или в лаптях? Не лучше ли идти туда в виде странников или простых чернорабочих?
— Совершенно верно, — отвечали другие. — Что общего имеет шитье сапог с революцией?
— Своим ремеслом, — прибавляли третьи, — мы только отобьем хлеб у настоящих мастеров.
Впереди всех в работах шел я, затем Алексеева, старавшаяся не отставать от меня. Остальные были далеки позади в сравнении с нами двоими. Наконец я сделал для Алексеевой маленькие полубашмачки из козловой кожи, и, когда она их надела и стала с торжеством всем показывать, Кравчинский, работавший несколько лучше других и давно заметивший, что из нашего сапожного предприятия ничего не выйдет, сказал с торжественностью, разведя руками:
— После этого нам уже нечему учиться! Пора закрывать мастерскую!
Так и было сделано. Мои полубашмачки оказались единственным произведением, попавшим из нашей мастерской на человеческую ногу.
Тем временем я жил, как птица небесная, не имея ничего своего и никакого определенного местопребывания. Я ночевал большей частью в квартире Алексеевой, в том самом памятном зале, куда меня привели в первый раз.
Я спал там на стульях или на ковре посреди комнаты, одеваясь вместо одеяла своей рабочей чуйкой и подкладывая под голову что попало. Вместе со мной постоянно ночевали тут же Саблин, Кравчинский, иногда Шишко и очень часто еще пять-шесть человек посторонних, направлявшихся из Петербурга в народ и не успевших почему-либо найти другую квартиру. Алексеева спала в своем алькове, прилегавшем к этой комнате и отделенном от нее только драпировками, которые она тщательно соединяла вместе.
Иногда мы, лежа на своем полу и стульях, чуть не до рассвета дебатировали с ней, уже улегшейся в постель, различные общественные или религиозные вопросы.
Если бы кто-нибудь сделал в это время на нее донос и нас всех накрыли бы в ее квартире, то прокуроры и жандармы немедленно сделали бы, конечно, из своей находки такой скандал на всю Россию, какого еще никогда не бывало. А между тем по отношению к общепринятой в современном обществе и доставшейся нам в наследство от древних христианских монахов морали ни одна турчанка в своем гареме, под защитой десятка евнухов, не была в большей безопасности, чем эта молодая и одинокая женщина под нашим покровительством.