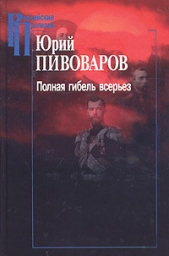Юрий Любимов. Режиссерский метод

Юрий Любимов. Режиссерский метод читать книгу онлайн
Книга посвящена искусству выдающегося режиссера XX–XXI веков Юрия Любимова. Автор исследует природу художественного мира, созданного режиссером на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке с 1964 по 1998 г. Более 120 избранных фотографий режиссера и сцен из спектаклей представляют своего рода фотолетопись Театра на Таганке.
2-е издание.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Значит, когда, выходя из роли и бросая в зал свои звеняще-рыдающие фразы, Славина продолжает декламировать, ее музыкальная пластика в эти моменты также продолжает оставаться поэтическим подтекстом. То есть в моменты обращения в зал перед нами актриса Славина как художник, и высказывается она «напрямую», помимо роли, именно в образе художника, созданном с помощью обычных для нее средств. Можно назвать это ее собственным лирическим «я», если угодно; во всяком случае, это не Славина «из жизни» (бывают ли актеры «сами собой» в жизни, как, впрочем, и все остальные, – другой вопрос). Помимо того, что это художник-лирик, разыгрывающий «цветаевскую» женскую мелодию своей души, статья неоднократно указывает и еще на одну особенность актрисы. «Отличает же Славину, – пишет критик, – жанр, к которому она тяготеет, и некоторые гражданские мотивы. (…) То, что делает Славина в спектаклях театра на Таганке, мелодекламация особого рода, почти что с обратным знаком. (…) Славина оттеняет не напевность, но несдержанное волнение, клокочущую гражданскую страсть» [23, 75–76]. Значит, образ, создаваемый актрисой в спектакле, представляет собой довольно сложное сочетание персонажа, причем персонажа лирического, актрисы, предстающей в качестве художника со своей специфической женской темой, и художника как гражданина.
«Мать»
Автор статьи, посвященной роли Ниловны в спектакле «Мать», начинает, на первый взгляд, с полемики со статьей Гаевского: «Славина играет свою роль ровно и профессионально, без пафоса и исступления». На деле здесь получает развитие мысль критика о едва ли не взаимоисключающих возможностях Славиной-актрисы. Да, она может вести свою роль исступленно-страстно, а может и ровно, без пафоса и исступления. Вспомним высказывания Гаевского об экспрессивной эмоциональности ее игры, как будто бы не контролируемой разумом, и, с другой стороны, – о холодке игры и интеллектуализме. «История скромной женщины, сумевшей подняться от жизненной прозы и найти свой путь, рассказана Славиной скромно, ненавязчиво, убедительно» [57, 31], – завершает Г. Макарова свою статью. И все-таки в таком настойчивом рефрене, начинающем и заканчивающем статью, скорее, больше полемического. Мы же склонны согласиться с В. Смеховым. «Роль ее, – пишет коллега по театру, – отшлифована, профессионально разделена на «куски», на «задачи», актриса прекрасно общается с партнерами, у нее сильный голос, отзывчивая нервная система, она доносит текст ясно, крупно, без единой потери. Но это, так сказать, первый этаж. Здание ее образа составлено несколькими этажами впечатлений. А высший среди них – достоверность человеческого страдания. Она играет чувство материнства, играет больно, ранимо, как главное в своей – ее – жизни. Это вообще свойство актрисы Славиной – играть роль, словно идти на свое первое и… предсмертное дело. Она беспощадно, непоправимо, исступленно темпераментна. Славина играет так, как летят в пропасть, когда вы можете услышать даже удары ребер о каменные выступы. (…)
«Деревянные кони»
Следующая ее актерская победа наступит на территории современной прозы – у Федора Абрамова в «Деревянных конях». Она сыграет абрамовскую Пелагею с подробнейшей этнографией одежды, повадок и стиля, а трагедия русской пекарихи снова обдаст зрителя жаром горения, крайним выражением человеческого горя» [80, 94]. На «одержимость З. Славиной, которая все делает так, словно речь идет о жизни и смерти» [91, 25], – обращает специальное внимание и Т. Шах-Азизова.
«Чудо преображения»
А другая «премьерша»? «Чудо преображения… В чем его секрет применительно к творчеству Демидовой? – размышляет в своей статье А. Образцова. – Это прежде всего мастерство трезвого и беспощадного анализа. Актриса анатомирует духовную сущность своих героинь с пристрастием подчас педантичным. (…) Она (Эльмира в «Тартюфе» – О. М.) грациозна, что обусловлено не столько грацией движений, хотя Демидова, как и другие партнеры по сцене, умеет владеть своим телом, – сколько своеобразной грацией ума. (…) Демидова никогда не скрывает строгой подчиненности всего, что делает, контролю мысли, все тщательно рассчитывая и отмеряя. (…) Этот метод исследования, отстаиваемый Демидовой, можно было бы считать излишне рационалистическим, если бы в созданных ею образах не раскрывалась в результате суть явлений, отнюдь не поддающихся контролю рассудка» [66, 26–27].
Мы помним, что Гаевский немалую часть своей статьи посвятил пластической форме игры Славиной. Специальный разговор о пластике сценических созданий А. Демидовой ведет Р. Беньяш. В ее описании Милентьевны перед нами то и дело предстает именно пластический образ героини: «Она возникает впервые вдали в самой глуби сцены, на низкой лапчатой бороне, неотлучной спутнице ее давней шершавой жизни. Сгущенным и резким лучом сосредоточенного на ней света высвечен силуэт, двухмерный, длинный, чуть сникший, почти бесплотный». А в конце спектакля она отправляется «вглубь сцены и в прожитую теперь, вероятно, уже до края жизнь. Ее силуэт – наклонный, непрочный и чуть колеблемый воздухом – проходит путь, может быть, последний» [12, 54].

Деревянные кони. Василиса Милентьевна – А. Демидова.
Пластика обеих актрис умна, музыкальна и содержательно точна. Порой описания этой стороны их ролей на удивление похожи. Вспомним еще раз, что написано о музыкально-пластической форме игры Славиной и о пластике, в которой – поэтический подтекст искусства актрисы. А вот замечание Р. Беньяш о Гертруде-Демидовой: «…вся пластика образа безупречна. Она составляет аккомпанемент главной теме и выражает мелодию внутреннюю. Рисунок демидовской королевы выточен тонко и строго. Не только в движениях, в самой статике чуть декоративных, изящных поз – не покой и не мудрость, как у Милентьевны, но стиснутость, острая напряженность, обузданный, потому что так надо, хотя безотчетный порыв к бегству» [12, 54–55].
В той давней статье о Славиной автор заметил: «Окончив Щукинское училище, вероятно, наиболее профессиональное из московских художественных училищ, и сыграв главную роль в «Добром человеке из Сезуана», технически наиболее сложном спектакле последнего времени, Славина сохранила какую-то замечательную необученность. Она читает стихи так, как читают только на вступительных экзаменах вдохновенные новички, безрассудные одиночки. На выпускных экзаменах так читать не умеют. Играет она так, как играют в прекрасных мечтах о сцене, (…) можно сказать, что игра Славиной – восстание старинного актерского театра, поддержанное современным режиссером». В этой эффектной тираде попытка уловить одно из реальных противоречий, которое если не разрешалось, то счастливым образом отчасти снималось в самом строении любимовского спектакля. Мало того, – вспомним – критик настаивает на, казалось бы, парадоксальной необходимости для актрисы режиссуры именно этого рода. «В полную силу, – пишет он, – Славина может играть лишь в любимовских спектаклях – четких по рисунку, тенденциозных по идее» [23, 75].
Гаевский склонен полагать, что даже те индивидуальные актерские данные, которые присущи Славиной и открывались уже в самых первых спектаклях, – своеобразно приговаривали ее к игре в любимовском театре. Так, отмечая «тяжеловатый голос» и «легкую стремительную пластику», критик констатирует: «Контраст вполне в стиле Театра на Таганке. Славина рождена для поэтического представления, созданного Ю. Любимовым жанра, рассчитанного на двойной эффект – интенсивно звучащего слова и призрачно тонко вырисовывающегося силуэта». И «тональная окрашенность» игры актрисы свидетельствует, по мнению критика, о том же: «Игра Славиной окрашена двумя основными тонами – жалостливым и агрессивным. Промежуточные тона почти отсутствуют. (…) Это, впрочем, общее направление любимовского театра: человеколюбие, полное ненависти к рабству» [23, 75].