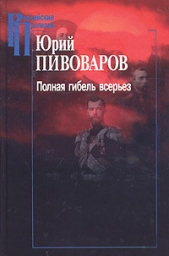Юрий Любимов. Режиссерский метод

Юрий Любимов. Режиссерский метод читать книгу онлайн
Книга посвящена искусству выдающегося режиссера XX–XXI веков Юрия Любимова. Автор исследует природу художественного мира, созданного режиссером на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке с 1964 по 1998 г. Более 120 избранных фотографий режиссера и сцен из спектаклей представляют своего рода фотолетопись Театра на Таганке.
2-е издание.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рассуждая о Пимене, который
Григорий властным жестом подчинял себе хор-народ, заставляя его повторить последнюю строку. Власть дирижера – это от Григория, уже начавшего воплощать свои далеко идущие замыслы в такой своего рода репетиции, в проверке собственных возможностей. И власть эта употреблена по отношению к народу, поспешно подчинившемуся силе. Однако пушкинскую строку, выражавшую опасную философию равнодушия, народ произносил хотя и по воле свыше, но с собственным мудрым пониманием и горьким знанием. Одновременно мы видели и самого актера Золотухина, участника таганковского спектакля, который предлагал своим коллегам сделать акцент на существенной для спектакля мысли. И это актеры Таганки, имеющие горький опыт наших современников, вместе с хором-народом обращали внимание зрителей, своих соотечественников, на актуальнейшее пушкинское высказывание.

Борис Годунов. Пимен – А. Трофимов.
Подобные расслоения были часты в спектакле. Порой возникали моменты, когда казалось, что хор – это народ, и только. Но тут же мы замечали – по особому волнению, интонациям и взглядам, обращенным к зрителю, – что перед нами одновременно были и сами таганковские актеры, художники, граждане своей страны.
Итак, актеры у Любимова всегда оказывались полноправными героями спектакля – наряду с персонажами. Но вправе ли мы отсюда сделать вывод о том, что перед нами система Брехта или ее аналог? Разумеется, Брехт совсем не случайно признан Таганкой наряду с Мейерхольдом, Станиславским и Вахтанговым – одним из главных учителей. Дух новаторства и острота поднимаемых в творчестве немецкого режиссера и драматурга проблем, – видимо, важнейшие тому причины. Что касается эстетики, то здесь гораздо больше различий, чем сближающих моментов. Ведь у Брехта (помним, что мы всюду говорим о его теории) с персонажем сопоставляется именно личность актера как таковая. У Любимова – другое.
Т о, что актер, даже выступая от «собственного» лица, от лица театра, тоже предстает перед нами не в «чистом виде», а в определенном созданном им образе, – критикой было осознано и вполне четко сформулировано. «Подобная техника, – писала Р. Кречетова, – ничего не имеет общего с безобразностью, возникающей в том случае, когда актерское «я» выносится на сцену в обыденном частном варианте, не пройдя эстетического его преображения» [44, 140].
«Возможна и такая ситуация, – рассуждал другой автор, – когда актер вроде бы вообще никого не играет, а ограничивается намеком на изображаемый персонаж или же обходится вообще без намека, а просто рассуждает о персонаже, комментирует его поведение, обращается к зрителю не посредством создания образа, а прямо от своего лица, как бы лично от себя.
Но в том-то все и дело, что на самом деле артист, выходя на сцену, выступает не сам по себе, а как представитель автора, представитель театра, представитель создателя спектакля, то есть опять же играет роль, образ участника данного коллектива, образ участника данного спектакля» [89, 87].
Два «полюса» – З. Славина и А. Демидова

В контексте рассуждений о своеобразии феномена «актер Таганки» по-своему показательным, даже вызывающим в своей демонстративности является тот факт, что «премьершами» театра (здесь для нас не важна иерархия, просто этот статус уже как бы зафиксирован) являлись два таких «полюса», как З. Славина и A. Демидова. Существенно, что в процессе анализа создаваемых актрисами образов рецензенты обращали внимание на ярко выраженное своеобразие творческих индивидуальностей и темпераментов своих героинь, но на этом фоне при сравнении творческих портретов Славиной и Демидовой бросается в глаза общее в способе существования актрис на сцене, способе, являющемся «родовым» для таганковских актеров.
«Играет, как играть не принято»
Творческий портрет З. Славиной, написанный B. Гаевским по итогам трехлетней деятельности актрисы, – при сегодняшнем чтении его, – подтверждает догадку о том, что с самого начала Любимов имел вполне определенную если не программу, то систему идей, в том числе и относительно актерского искусства. Она никогда не вырисовывалась из его публичных высказываний. А из спектаклей и отдельных актерских образов – вполне.

Тартюф. Дорина – З. Славина.
Нещадная растрата актрисой нервной энергии, страстный бурный темперамент заставляют В. Гаевского заявить: «Славина играет, как играть не принято, как играть нельзя. Эти исступленные крики, эта взвинченная патетика (…). Играет она так, как играют в мечтах о сцене, – не контролируемых разумом. (…) Можно сказать иначе: восстание сердца против рассудка». Критик вспоминает в связи со Славиной о полулегендарных временах актеров-романтиков, об актерах «нутра». Но в этой параллели если и проступает истина, то не вся. И, не боясь впасть в противоречие, исследователь продолжает: «Цветаевскую женскую мелодию души своей Славина разыгрывает на поскрипывающих инструментах брехтовской железной мысли(…) Безудержный лиризм Славиной в подтексте своем интеллектуален. (…) «Нутро» Славиной неотделимо от игры, от «представления», от художественной иронии» [23, 75]. Итак, с одной стороны – бурная страсть, вызывающая впечатление «не контролируемой разумом». А с другой – интеллектуализм, разыгрывание мелодии души на «инструментах мысли». С одной стороны, – та же бурная страсть, исступленность, с другой – отчетливое впечатление игры, зритель видит именно актрису, играющую, а не «проживающую» фрагмент жизни персонажа.
Манера игры актрисы, с «короткими, концентрированными, обжигающими вспышками энергии», будто предназначена для любимовского поэпизодного строения спектакля. «Так а я манера исключает драматургию обычного типа, повествовательную драматургию широкого дыхания и достаточно общих фраз». Она (манера), – «резка, импульсивна», что сочетается с психологической документальностью. «Это искусство без полутонов и оттенков» [23, 78]. О чьей психологии говорит критик? По-видимому, о психологии изображаемого актрисой персонажа. С другой стороны, как мы помним, Славина разыгрывает на сцене и «женскую мелодию своей души». Значит, на сцене, помимо персонажа, еще и сама Славина (во всяком случае та, мелодию чьей души она разыгрывает)? Правда, имея в виду отмеченный критиком лиризм, можно предположить, что мелодию своей души актриса разыгрывает, изображая персонажа. Следовательно, персонаж – это она, Славина, в предлагаемых обстоятельствах?
«Антимиры»
Это подтверждается и следующим пассажем, посвященным «Антимирам»: «В «Антимирах», спектакле, составленном из поэтических текстов А. Вознесенского, Славина читает «Париж без рифм» – стихотворение юмористическое, радостно-легкомысленное, турандотовское по технике и по настроению. Надо слышать, какую волну веселья несет в себе это чтение. А ведь незадолго до того Славина вся заходится от гнева и плача в другом стихотворении – «Бьет женщина». «Париж без рифм» читается в образе студентки Латинского квартала, – в сценическом облике Славиной, в ее манерах и повадках, даже в ее прическе есть неуловимая близость к этому типу. «Бьет женщина» – монолог современной Катюши Масловой, это другая сторона души и облика Славиной». Здесь уже недвусмысленно говорится о том, что та или иная часть души Славиной проявляется в персонаже. А несколькими строками выше критик утверждает, что в игре Славиной «обнаженной страстности (…) столько же, сколько и жест кого сарказма» [23, 75]. Но даже если обнаженная страстность принадлежит только персонажу, пусть лирическому, то кто жестко саркастичен, если не сама актриса? Да, собственно, говорится об этом и прямо: «Лучшие минуты у Славиной – когда она, вырываясь из контекста роли, из общения, из предлагаемых обстоятельств, бросает в зал свои звеняще-рыдающие фразы». И все-таки, кто же это «она» – сама Славина в нехудожественном варианте? Нет и нет. И об этом в замечательной статье тоже «есть». Ведь и вырываясь из контекста роли, «бросая в зал свои звеняще-рыдающие фразы», актриса не перестает декламировать. «Искусство Славиной, – пишет критик, – яростно декламационно. Даже прозаические фразы Брехта она читает как стихотворение» [3, 75–76]. Кроме того, «есть скрытая музыкальность в игре Славиной. (…) Музыкальна пластическая форма Славиной. (…) В пластике поэтический подтекст яростно-декламационного искусства Славиной. (…) Пластика вносит в него холодок игры. Иначе сказать, Славина не только актриса декламации, но и актриса пантомимы» [23, 76–77].