А. Блок. Его предшественники и современники
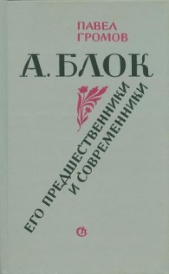
А. Блок. Его предшественники и современники читать книгу онлайн
Книга П. Громова – результат его многолетнего изучения творчества Блока в и русской поэзии ХIХ-ХХ веков. Исследуя лирику, драматургию и прозу Блока, автор стремится выделить то, что отличало его от большинства поэтических соратников и сделало великим поэтом. Глубокое проникновение в творчество Блока, широта постановки и охвата проблем, яркие характеристики ряда поэтов конца ХIХ начала ХХ века (Фета, Апухтина, Анненского, Брюсова, А. Белого, Ахматовой, О. Мандельштама, Цветаевой и др.) делают книгу интересной и полезной для всех любителей поэзии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
рассвету, восходу солнца, но нет никакой картины утра, да ее и не может
быть, — основной акцент так недвусмысленно лежит на самом видении, что
день — только стертый аллегорически-подсобный знак темы, и не более.
Поэтически в стихе он вовсе ничего не выражает. На протяжении 80-х годов,
видимо как преломление общих для поэзии той поры тенденций, и в частности,
очевидно, в связи со «вторым рождением» лирики Фета, появляется отчетливая
тяга к более разработанным, более последовательным, законченным и поэтому
более важным в композиции стиха, а следовательно, более ощутимым также для
восприятия — раздельным образам «я» и «природы». При этом настолько ясно
прямое следование Фету, что даже Блок, всегда осторожно, с особым
целомудрием выбирающий слова, когда идет речь о Соловьеве, говорил про
него как про «благодарного ученика фетовской поэзии» («Рыцарь-монах», IX,
183). Вот характерный пример изменившихся внутренних соотношений в
структуре стиха Соловьева:
В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны — и схваченная снами
Душа молилася неведомым богам.
В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь, и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.
В этом стихотворении 1885 г. совершенно ясно, что знаки природной жизни уже
движут саму тему и идею стихотворения. «Утренний туман», «заря»,
борющаяся «с последними звездами», — это, конечно, утро жизни, начало пути
человека, начинающего в юности духовные искания. Ни «ночь», ни «рассвет»,
ни «зарю», ни «последние звезды» нельзя выкинуть из стихотворения или
заменить другими деталями: они ведут самую тему и идею вещи — тему
неустанных поисков идеала, поисков «синтеза», берущих у человека всю жизнь
и идущих своим непреложным, естественным ходом, как смена дня и ночи,
юности и старости. При этом суточная смена времен идет из строфы в строфу,
символизируя как возрастное движение человека, так и трудность нахождения
идеала: вторая строфа с ее очень сильной (и важной для Блока) лирической
формулой «холодный белый день» дает зрелость человека, открывающую
одновременно пути к идеалу; в финальной, третьей строфе, поэтически
наименее сильной, идеал открывается как «весь пламенеющий победными
звездами»; здесь уже смена мрака и света, старых и новых звезд, юности духа и
старости жизни предстает прямо как «синтез».
Вместе с тем в стихотворении, столь явно связанном с Фетом, поражает
отсутствие живой непосредственности в смене природных состояний и
состояний души, отсутствие прихотливых перебоев одной из этих граней темы
другой, отсутствие реальной динамики как в жизни души, так и в жизни
природы. «Душа» и «природа» жестко, наглухо прикреплены друг к другу; с
механической, железной последовательностью происходит и «рост души», и
«смена времен». «Синтез» не столько возникает у нас на глазах, сколько задан.
Потому-то и слабее других финальная строфа: это скорее «решение задачи» в
учебнике алгебры или даже арифметики, вынесенное с последних страниц, как
это обычно бывает в учебниках, к самой задаче, к первым двум строфам, чем
реальный лирический итог, выросший из движения стиха. Искусственный,
нереальный характер соловьевских философских построений с очень большой
силой проявляется в этой холодной, механической конструктивности
построения, сменяющей строго закономерные в своей виртуозности и
жизненной убедительности, при всех, даже чрезмерно острых, поворотах,
композиции Фета. В стихах Соловьева всегда ощутимо это противоречие:
большая лирическая сила отдельных строк, строф или даже всего словесного
состава стихотворения — и рядом с этим постоянное ощущение
искусственности, холодной рассудочности, механической конструктивности, то
тут, то там всегда дающих знать о себе читателю стихов Соловьева.
Однако есть здесь и еще одна сторона дела, о которой необходимо помнить
для того, чтобы верно представлять себе историко-литературную перспективу.
«Заветный храм», «пламенеющий победными огнями» «под новыми звездами»,
выступающий в финальной, обобщающей строфе стихотворения «В тумане
утреннем…», — это не частное, личное дело лирического «я», это реакционная
общественная утопия, вторгшаяся в лирику, и она, конечно, и обусловливает
слабости стихотворения. Необходимо вместе с тем видеть замысел в
совокупности его разных сторон. «Общий» аспект замысла тесно связан с
качествами лирического «я». У Фета лирическое «я» было частным лицом с его
чисто индивидуальными переживаниями, соотнесенными с природой.
Присущая Фету «диалектика души» односторонняя, сильные стороны Фета
связаны со слабостями, то же самое следует сказать о Соловьеве. Соловьев
трезво обнаруживает слабые стороны Фета, он приходит раньше Блока к той же
художественной коллизии, что и Блок. Потому-то он так поразил воображение
Блока и некоторых других поэтов начала века. По-своему смело Соловьев
разрубает гордиев узел вместо решения проблемы, поэтому никакого реального
поэтического открытия у него нет, но уже само обнаружение проблемы дает ему
кое-что в художественном смысле. Ведь сильные лирические формулы, часто
появляющиеся в стихах Соловьева, как раз связаны с этой его устремленностью
к «общему идеалу», хотя и неверному, реакционному. Лирическое «я» стихов
Соловьева вкладывает всю свою жизнь, всю душу в этот общий идеал. Итог
получается двойственным. Патетическая личная устремленность к «общим
целям» порождает в своем роде эмоционально сильные строки и строфы.
Реакционно-утопический характер самого идеала подрезает крылья
эмоциональному порыву, вводит рационализм, статичность, мертвенность в
самую структуру стихотворения, в его композицию, в его образный строй.
Соловьев пытается изменить характер лирического «я», вводя в структуру
стиха не только общефилософские идеи, но и политический и исторический
материал (разумеется, в тех направлениях и границах, как это представляет себе
Соловьев). Так, в стихотворении «Ex Oriente Lux» («С Востока свет», 1890)
излагается, с экскурсами в далекое прошлое, политическая идея Соловьева о
слиянии, синтезе восточных и западных начал истории («Тот свет, исшедший от
Востока, С Востоком Запад примирил»), с характерной либерально-
славянофильской концовкой:
О Русь! в предвиденьи высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?
Создается впечатление, что Соловьев в такого рода вещах как бы пытается
подключить в общую свою стилевую систему славянофильскую риторическую
поэзию, типа А. С. Хомякова. Есть целый ряд таких стихотворений; иногда тут
Соловьев достигает своеобразной лирической выразительности в создании
внеличной, пронизанной условно-историческими элементами поэтической
индивидуальности образа «я»; так, в стихотворении «Неопалимая Купина»
(1891) пробуждение чувства долга перед народом дано в лирически сложном
по-своему образе. Блок позднее использует выразительную лирическую
формулу из этого стихотворения:
И к Мидианке на колени
Склоняю праздную главу
Принципиально важны для развития поэзии эти попытки включить
общественно-исторические элементы в лирический образ; самому Соловьеву
они явно нужны как способ проверки его общих религиозно-утопических идей
в лирическом, художественном контексте. Чем ближе к концу жизни поэта, тем
судорожнее делается лирическая патетика подобных образов:
























