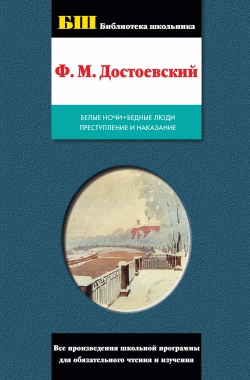В белые ночи

В белые ночи читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Предположение, что обычные способы давления вроде побоев или пыток не являются решающим фактором в получении «признаний», наверняка вызовет утверждение, что мой личный опыт, приобретенный во время допросов, недостаточен, неполон. Это правда. Меня не пытали, не били. Мне только угрожали в управлении НКВД и в Лукишках «другими средствами», которые заставят меня согласиться с мнением следователя, но эти угрозы так и не были выполнены. Могу привести дополнительные свидетельства в пользу НКВД. В тюрьме и в бараках «исправительного» лагеря мне пришлось беседовать с сотнями заключенных. Никого из них не били и не пытали. Кто-то, правда, слышал, что следователи избили нескольких польских офицеров. Польский капитан, мой сокамерник, рассказывал, что во время одного из допросов следователь поднес пистолет к его носу и сказал: «Понюхай — поймешь, что тебя ждет». Холод металла вызвал неприятное чувство. Но и капитана никто не бил.
Возможно, обитателям Лукишек того периода повезло. Мы попали в тюрьму в период массовых арестов. Проводилась не особая, а обычная чистка: Литва два десятилетия находилась вне советского влияния, Красная армия осуществила «июньский переворот», и вслед за этим стражи революции произвели «профилактику». Тогда не готовились показательные процессы, и аресты должны были просто снять «подозрительную прослойку» из людей всех национальностей, всех общественных групп. Интеллигенты, военные, научные работники, политические деятели, в том числе коммунисты и их адвокаты, должны были исчезнуть бесшумно, по решению Особого совещания, заседавшего «где-то в Москве».
Мне тоже повезло. Я оказался в серой многотысячной массе заключенных, которым суждено было исчезнуть — со следствием или без него. Следователь был уверен в моей виновности и прямо заявил: «Был председателем Бейтара? — Значит, виновен!» Я не сомневался в своей правоте, и честно заявил: «Был — и невиновен!» Разумеется, мне и в голову не пришло отрицать, что «был», и этого признания оказалось достаточно для следователя и его начальства. Следователь хотел, правда, от меня не только свидетельства, что «был», но и признания, что я «виновен в том, что был». Он не лгал, что многие подписали такое признание. Кадровые военные признавали себя виновными в том, что были генералами или полковниками польской армии; высшие чиновники — в том, что были начальниками отделов в министерстве внутренних дел Литвы. Они подписывали заключительный протокол без пыток, без побоев, — чтобы кончились бессонные ночи, чтобы поскорее прекратились бесконечные душевные пытки. Один из моих сокамерников, старый майор, с которым меня связала особая дружба, рассказал, что он тоже обратил внимание на текст заключительного протокола и требовал его изменить. Ему тоже пришлось выслушать угрозы и увещевания, но он стоял на своем и подписал текст без слова «виновен». Но во время массовой «профилактики» НКВД, возможно, не придает особого значения нюансу, отделяющему формулировку «признаю, что был» от формулировки «признаю себя виновным в том, что был». Главное — «признание, что был» (предмет моей гордости и гордости сотен других заключенных) — у них в руках. И это все, что требуется.
Мой опыт, разумеется, далеко не полон. Я не признался, я не предстал перед судом. Но допустим, что советские следователи избивают и пытают особых подследственных, что, кстати, не запрещается ни одним советским законом… Один из заключенных, коммунист, рассказал мне о допросах в томской тюрьме. Однажды следователь, специалист своего дела, внезапно вскочил, выдернул ножку стула и принялся его избивать с монотонными криками: «Признаешься или нет? Признаешься или нет?» Заключенный, один из видных советских руководителей, просил следователя об одном: не бить по сердцу, по его больному сердцу.
Но неужели побоями или другими физическими пытками можно объяснить публичные «признания» и «исповеди» обвиняемых? Разве в других странах не избивают в полиции? Разве в других странах не применяют пытки при допросах в полицейских участках — военных и гражданских? В большинстве государств существуют законы, запрещающие применение физического воздействия, но кто станет отрицать, что следователи часто сознательно нарушают эти законы? Кто станет отрицать, что в большинстве случаев варварские действия блюстителей закона не становятся достоянием общественности, что лишь в очень редких случаях чиновники-правонарушители несут наказание? Все так. Но тем не менее нет в мире полиции, способной тягаться с советской тайной полицией и ее филиалами в странах-сателлитах. Люди часто не выдерживают пыток, но далеко не всегда пытки способны сломить волю человека. И ведь многие из тех, кто «каялся» на советских показательных процессах с «трибуны исчезновения», подвергались адским мукам в застенках других режимов — и выстояли!
В чем же решение этой величайшей загадки наших дней?
По-моему, находясь вблизи и изнутри, мне удалось изучить решающие факторы, которые заставляют обреченных на смерть «каяться» перед своими палачами. Во-первых, это — изоляция. Имеется в виду не физическая изоляция, известная в юриспруденции под названием инкоммуникадо. (Без нее, разумеется, тоже не обходятся в царстве НКВД, и она здесь осуществляется в абсолютной полноте: после ареста ты получишь свидание с близкими родственниками только перед отправкой на «перевоспитание»; в тюрьме тебя не посетит адвокат, и ты вообще не будешь видеть никого, кроме следователя и соседей по камере; переступив порог НКВД, ты исчезаешь; члены семьи знают только — иногда им и этого не сообщают, — что ты «там, где надо», в «надежных руках». Стену этой изоляции не измеришь ни в высоту, ни в толщину.)
Но над стеной физической изоляции возвышается другая, невидимая, но более прочная и непроницаемая, чем первая, — из железа, бетона и сторожевых вышек. Смысл этой «высшей» стены не в режиме изоляции, а в изоляции режима. Подобной стены до сих пор не знала история.
При любой другой власти найдется газета, которая опубликует слова арестованного, подследственного, подсудимого. И если арестованный — борец, стремления и деятельность которого выходят за рамки формального закона, при любом другом строе появится размноженная на станке или от руки листовка, рассказывающая, за что человек арестован, каких признаний от него добиваются, что он сказал. Борец-революционер черпает силы в сознании, что его слова дойдут до людей, молчание будет услышано, стойкость будет оценена. Только малодушные циники, не понимающие переживаний борца, могут называть это тщеславием. В действительности это высокое состояние души, когда человек един с идеей, за которую готов отдать жизнь. Борец, готовый вынести страдания, преследования, голод, пытки, страх смерти во имя идеи, — это герой, и неважно, чем он вооружен: винтовкой, луком и стрелами, верой в Бога, научной идеей или стремлением к свободе. Но ему необходимо знать, что его жертва не напрасна, что она принесет пользу идее, даст ей новых последователей, новых борцов. Только так может победить идея. Как готова мать во имя любви к ребенку пожертвовать жизнью, так готов борец отдать жизнь ради идеи. Но если человек знает, что никто его не услышит, никто не оценит его стойкости и жертвы, никто не последует его примеру, — слабеет нить между ним и идеей, исчезает сознание важности своей миссии, и измученная душа спрашивает: «Кто узнает? Кто пойдет за мной? Кто заменит меня? Какой смысл в страданиях? Какой толк в мучениях?»
Двойная стена, воздвигнутая советским режимом вокруг особых заключенных делает эти вопросы неизбежными. Ответ один: «Нет пользы, нет толку». В день или ночь, когда заключенный задает себе эти вопросы и находит единственный безутешный ответ, решается его судьба: его ждет не только физическое уничтожение (оно в любом случае обеспечено), а нечто, неизвестное истории революционных движений: служба идее палача. Двойная изоляция самым простым путем, без таинственных уколов и страшных пыток, достигает своей двойной цели: исчезает ореол самопожертвования ради идеи, направленной против режима, и остается непреодолимая сила режима.