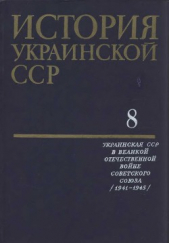Письма на волю
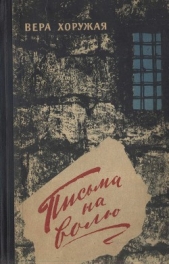
Письма на волю читать книгу онлайн
В 1930 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга «Письма на волю».
Из соображений конспирации вместо имени и фамилии автора на обложке стояло: «Польская комсомолка».
Автором этих писем была Вера Хоружая, секретарь Центрального Комитета комсомола Западной Белоруссии, несколько лет томившаяся в польских тюрьмах.
Книга вызвала огромный интерес у читателей и быстро разошлась. Поэтому в 1931 году издательство выпустило второе издание.
Еще раз книга Веры Хоружей была издана в «Молодой гвардии» в 1957 году.
Теперь имя героической дочери белорусского народа стало известно многим читателям. В 1959 году в «Правде» были опубликованы ее записки, относящиеся к 1942 году, к тому времени, когда Хоружая, оставив двух малолетних детей, пошла защищать от врага свою любимую Родину. После этого интерес к жизни В. Хоружей возрос еще больше.
В настоящем издании собраны письма, статьи В. Хоружей и воспоминания о ней. В основу книги положен сборник «Славная дочь белорусского народа», подготовленный Институтом истории партии при Центральном Комитете Коммунистической партии Белоруссии и выпущенный государственным издательством БССР (составители H. С. Орехво и И. П. Ховратович).
В книге раскрыты имена и фамилии большинства лиц, которым адресовала свои письма из тюрем В. З. Хоружая. Расшифрованы также фамилии многих партийных и комсомольских работников Польши и Западной Белоруссии, которые в ряде писем, по конспиративным соображениям, помечались лишь начальными буквами.
Некоторые имена расшифровать не представилось возможным.
В отличие от указанного белорусского издания в данной книге помещен биографический очерк Б. Котельникова о жизни В. Хоружей.
Издательство «Молодая гвардия» выражает благодарность брату В. Хоружей Василию Захаровичу Хоружему, принявшему участие в подготовке издания для «Молодой гвардии».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хочу поделиться с тобой своей большой радостью: на днях получила письмо от моих старых товарищей. Не знаю, поймешь ли ты всю глубину моего счастья? Пять лет ничего о них не знала, думала, что они уже рассыпались в разные стороны, давно про меня забыли, а тут — все они вместе, помнят меня, любят, шлют приветы, ждут. Много ли есть на свете лучших вещей?
…В одиночке я уже не сижу. Хоть и мало нас тут — всего только пять, но мы уже вместе, в общей камере. Интересно, что и ты и Надя — обе не могли примириться с мыслью, что я в одиночке, обе чутко поняли, что мне было это очень тяжело. Такое совпадение меня удивило и обрадовало. Но это уже прошло. Я уже снова слышу человеческую речь, смех и песни, и сама громче и больше всех смеюсь. Нам очень хорошо вместе, и мы учимся, учимся. Знаешь, у нас редко когда бывают сейчас серые, однообразные, понурые дни. Мы живем и чувствуем жизнь и ее радость; даже тут, в этом глухом углу, каждый день приносит нам какой-нибудь подарок, какое-нибудь интересное явление. А я по мере возможности стараюсь сделать за день как можно больше. Учусь с великой охотой, дня не хватает — уж очень коротки дни.
…Если бы ты знала, чем является теперь для меня каждый из моих старых друзей, найденных после стольких лет. Так славно и хорошо в здешнем безлюдье чувствовать связь с далеким вольным миром.
Тогда же
Всем родным.
…А у нас — теплая солнечная золотая осень. Река такая красивая, задумчивая и прозрачная в осеннем наряде. А сегодня на прогулке я с Полчинской и О. сидели на скамейке под грушей, смотрели на бледное голубое небо, на нас падали золотые листья, и мы себя воображали на свободе, в саду или в лесу.
Ох, как не хочется уходить с прогулки, как незаметно пролетает час! Мы часто говорим, что когда выйдем на свободу, то спать будем на дворе, чтобы как можно меньше быть в стенах, под крышей.
15 ноября 1928 г.
Им же.
…Вот уже и половина ноября. Через полтора месяца новый, странный и неизвестный год, но хороший тем, что перечеркивает старый. Нет его, прошел, отсижен еще один. Ну, довольно философии…
1 декабря 1928 г.
Товарищу Л. Розенблюму [36].
Недавно была годовщина Октябрьской революции. Сколько переживалось с радостью и болью. Нас, с красными бантиками, не выпустили на прогулку. Мы, маленькая, заброшенная кучка в несколько человек, так громко и свободно пели «Интернационал», чтоб нас слышали у вас и на всем свете, и чувствовали мы себя не группкой, а огромной массой, могучей силой.
Да и как было не чувствовать себя силой, когда наша наивысшая власть — начальник тюрьмы — топал ногами и кричал: «nie pozwalam» [37], а в ответ ему безудержным потоком неслась грозная, боевая песня. Как волновалось наше начальство, каким смешным и ничтожным казалось нам. Ну, разве ты бы не ответил полным презрения хохотом, если бы тебе говорили:
— Каждый ваш шаг в тюрьме намечается мною. Вы можете делать только то, что я вам позволяю… Надо было бы спросить у меня позволения. (Ты слышишь?) Ведь это беспорядок в тюрьме, ведь это на улице, в городе слышно…
А мы только этого и хотели.
Потом начальство переходило на другой тон и говорило:
— Ведь я так забочусь о вашем здоровье, ведь я столько добра вам желаю…
Да, хоть в наши праздники особенно тяжело чувствуешь тюрьму, заточение, одиночество, но зато никогда себя не ощущаешь такой силой, никогда так ярко не видишь, что мы — это весь мир, что нас не победишь, не сломишь!
26 декабря 1928 г.
Сестре Любови.
…О, как хотела бы в эти дни быть с тобой, со всеми вами. Как дороги мне эти дни. Передай от меня пламенный привет комсомолу. Я всей душой с вами и в тюрьме, всегда и везде, везде.
Мои дорогие, незабываемые, так трудно сказать в письме все то, что сегодня хотелось бы вам сказать, но вы поймете меня. Годы, проведенные нами вместе, связали нас на всю жизнь, а мне на всю жизнь дали силы, закал, сделали меня достойной вас и непобедимой. Я горда тем, что вышла из нашей семьи и сегодня, в такой радостный день, протягиваю вам руку, буду счастлива, если вспомните обо мне, всегда и везде вашей.
Тогда же
Товарищу С.
…Это было несколько недель тому назад, но мне так хочется тебе это рассказать. За окном где-то заходит солнце, и наши три сосны и река розово улыбаются уходящему светилу. Мы сидим и читаем газеты, увлекаемся, спорим, и вдруг — музыка. Мы все через миг у окна, жадно тянемся через решетки и слушаем, слушаем. Это не оркестр, а шарманка или флейта. Уличный музыкант. Я сижу на подоконнике, и меня окутывают нежные, издалека доносящиеся, как будто последними лучами солнца приносимые звуки. Я слушаю, и мне кажется, что на подоконнике, рядом со мной — ты. Мне так радостно, хорошо, хочется протянуть руку, чтобы тебя обнять, и я улыбаюсь и солнцу, и музыке, и тебе.
Ну, как это будет, когда мы встретимся? Я так часто вижу нашу будущую встречу.
Сегодня как-то не могу много писать, а теперь уже скоро прогулка… Пришли мне еще несколько книжек: те прочла одним духом.
28 декабря 1928 г.
Ему же.
…Только что кончила читать (еще раз) «Комсомолию». И захотелось мне тотчас же поговорить с тобой, принести тебе все волны горячей радости, и где-то, где-то глубоко искорки боли и ярко горящее пламя пережитого, и все, все, что приносит мне с собой, вызывает во мне эта бесконечно дорогая поэма, эта сказка и песня — быль обо мне и о тебе, обо всех нас.
В ту минуту, когда я прочла последнюю строчку, и мелькнула мысль: «Написать, скорей, сейчас», — помчались один за другим образы, милые, всегда живые, послышались всегда звучащие музыкой слова. Но… разве обо всем этом напишешь?
Так вот, представь себе, что сегодня совсем не собираюсь читать этой поэмы. Мы уже успели ее прочесть и решили еще раз торжественно читать в новогодний вечер. Сегодня я села составить программу этого вечера, должна была просмотреть целый ряд сборников, книг; просмотрела одну, отметила нужный отрывок, взялась за «Комсомолию» и… снова прочла ее с первой до последней страницы, целые абзацы прочитывая по два раза, то и дело восклицая вслух; «Эх, хорошо, черт подери!» — или, сжимая зубы, старалась шире вздохнуть сдавленной грудью.
Прочла, и… дальнейшим пунктом программы вышло письмо к тебе. Нет на свете поэмы более милой мне. Сашка [38], парень дорогой, какой же он распрекрасный, что ее написал. Ну, сам подумай: на четвертом году тюрьмы в глухой камере на нашем острове, где, кроме друг друга и администрации, мы видим только прилетающих к нам на крошки воробьев и ворон, я увидела тысячи милых, родных ребят, не просто знакомую, а родную обстановку, услышала голоса и песни, шум и стук, и музыку, и стрельбу, и чеканный шаг, и смех, смех… Ах, хорошо, хорошо мне, как хорошо! И так мне захотелось к вам, ну, на неделю, на месяц. Посмотреть, послушать, увидеть, увидеть… Но… тюрьма, тюрьма и версты границы… Ну, что там много говорить. Хочу вас видеть, хочу, хочу.
…А сколько безгранично прекрасного здесь, в Польше. Долго, долго буду рассказывать, когда встретимся. О, сколько здесь у нас на каждом шагу тем для лучезарных поэм, сколько еще не вылитых песен! Вчера последние газеты принесли долгожданные известия о судах над знакомыми ребятами. Среди них — мои тюремные ученицы, любимые мои девочки. Приговоры — пять и шесть лет. И это еще хорошо, очень хорошо, потому что в последний год в Польше восьми-, десяти-, двенадцатилетние приговоры перестали быть ужасающей новостью. И ничего! Был курс на четыре года и была бодрость, говорили: «Что там четыре года, проживем, подучимся, ладно». Был курс на шесть лет, и бодрости было не меньше, еще ярче глаза, смелее в бой, вперед. Пришел десяти-, двенадцатилетний курс — и бодрость подкрепилась большой дозой злобы, а к смелости прибавился сжатый кулак. И живем, и растем, и поем, и на прогулках (когда позволят) играем в снежки и из Вронок, Мокотовых, Лукишек, Павяков [39] каждую минуту думой улетаем к вам. Идем вместе с вами вперед и вперед, и это сознание такой могущественной силой обладает, что все нипочем… Передай привет всей партии и комсомолу, всему СССР.