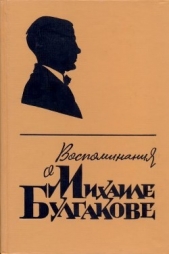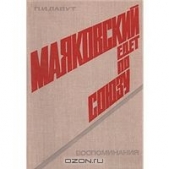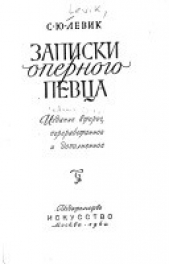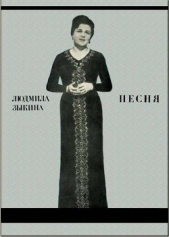Елена Образцова

Елена Образцова читать книгу онлайн
Эта книга — рассказ о жизни и творчестве всемирно известной певицы, народной артистки СССР, лауреата Ленинской премии Е. В. Образцовой. В течение нескольких лет автору книги Рене Шейко довелось непосредственно наблюдать работу Образцовой, присутствовать на ее репетициях и занятиях со студентами консерватории, посещать ее концерты и спектакли.
В книге подробно описана работа певицы с композитором Г. В. Свиридовым, занятия с концертмейстером В. Н. Чачава, выступления с Московским камерным хором под управлением В. Н. Минина и с Камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением В. Т. Спивакова. В авторское повествование органично включены беседы с Образцовой и ее дневниковые записи. Большое место занимает рассказ о творческих встречах с зарубежными музыкантами, знаменитыми оперными артистами.
Книга включает большое количество иллюстраций (фотографии В. А. Генде-Роте и из личного архива Е. В. Образцовой). Это дало возможность создать своеобразный фоторассказ о жизни и деятельности певицы, дополняющий и развивающий основные темы повествования.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Е. Образцова и синьора Тосканини. Италия, 1969.
— Видите ли, в Италии после гастролей Большого театра проснулся интерес к русской музыке. Итальянцы стали открывать ее для себя. И та постановка «Хованщины», о которой вы говорите, тоже была открытием. Главные партии тогда действительно пели «славяне»: Марфу — Ирина Архипова, Досифея — Марк Решетин, Ивана Хованского — Николай Гяуров. Режиссером спектакля был Иосиф Туманов. Но остальные солисты, хор и дирижер Джанандреа Гавадзени — все были итальянцы. А «Ла Скала» не может себе позволить разноязыкую оперу. Так что наши певцы выучили свои партии на итальянском, чтобы в Италии — на родине оперы — зазвучал Мусоргский. Но мы с вами говорим не о той конкретной постановке, а о принципиально иных вещах. О том, что музыкальное произведение нужно петь на языке оригинала. Ни один перевод, к примеру, не может донести тех чисто французских нюансов, которые есть в «Кармен», а значит, и тех эмоций и того накала страсти.
— Да, Образцова говорила: «Петь „Кармен“ по-русски для меня мучение. Например, в сегидилье. Там, где у Бизе большая музыкальная фраза, я вынуждена в середине ее брать дыхание — этого требует русский язык, — и музыка разрушается».
— Она права, — заметил Ерохин. — Именно поэтому в свое время она отказалась петь Марфу по-итальянски. Она спела ее лишь в семьдесят третьем году — спела по-русски. Тогда Большой театр во второй раз приехал на гастроли в Италию. Наши артисты привезли пять опер — «Руслан и Людмила», «Князь Игорь», «Хованщина», «Евгений Онегин», «Семен Котко».
— Александр Павлович, вы учили Образцову слушать музыку в разных исполнениях, анализировать, сопоставлять чужие интерпретации. Но скажите, не опасно ли это чрезмерное вторжение рассудка в ее естество, в природу? Не иссушает ли это способность на порыв, на движение, на импровизацию внутренней жизни? Ведь анатомировать музыку — это дать господствовать отвлеченной мысли над чистым переживанием. А Образцова — актриса скорее стихийного таланта, чем какой-то продуманной, выверенной схемы.

С дочкой Леной. 1970.
— Если вам придется долго наблюдать за работой Елены, вы поймете, что преувеличиваете ее стихийность, — сказал Александр Павлович. — Однажды мы возвращались с ней из Калинина. Ехали после концерта ночным поездом. И она всю ночь разбирала исполнительниц Марфы в «Хованщине». Если не ошибаюсь, она досконально проанализировала шестнадцать певиц — беспощадно или с любовью. Вникнув в эти различия, Елена созревает до сокровенного, своего. Это вовсе не означает, что она подхватывает чужие выразительные средства. Подхватывать их — значит подхватывать мертвое: итог чужой эмоции. Но она должна знать предшествующий опыт, чтобы потом, отрешившись от него, искать на самостоятельном направлении, уйти в свободу импровизации. И это не мешает ее способности к перевоплощению. Она полностью растворяется в образе. Когда мы выступаем на концерте, рояль стоит чуть боком, чтобы мы могли видеть друг друга — глаз в глаз. Однажды Елена пела Графиню из «Пиковой дамы». Я поднял глаза от нот и вдруг увидел перед собой старуху. Ни молодого лица, ни нарядного концертного платья — старуха! Мне стало страшно. А знаете, что она сказала мне перед концертом? «После концерта я тебе напишу список всех моих ошибок, что будут во время выступления. Если что-то пропущу, добавишь!» Но мне не пришлось ничего добавлять, она все спела верно.
Елена — пленница музыки. Это многое в ней объясняет. И многое в ней извиняет. Когда вы узнаете ее ближе, вы поймете, что музыка, в сущности, мало места оставляет в ее жизни для чего-либо остального. Я сказал ей однажды: «Если ты когда-нибудь умрешь во время концерта, ты все равно будешь петь, пока занавес не закроется».
В последние годы я уже сам учусь у нее. Генрих Густавович Нейгауз говорил, что он каждый раз учится у Рихтера. Так и я. Я восхищаюсь необычайным талантом Елены, я ею горжусь и отдаю ей все силы.
— Александр Павлович, в вашем доме Образцова впервые услышала Марию Каллас.
— Каллас была идолом Елены. Но Каллас пережила разные периоды в своей жизни — расцвета, застоя, топтания. У нее были гениальные спектакли. И у нее были провальные спектакли. Елена действительно слышала все, что пела Каллас. Она точно знает, когда та была в форме, а когда нет. Но в своей любви Елена принимает Каллас целиком.
Александр Павлович провожал меня до дверей.
— Не старайтесь узнать у меня все. Оставьте место для собственной пытливости. Вы откроете удивительный мир, — сказал он на прощание.
Екатерина Андреевна сидела в маленькой кухне. «У меня готов пирог», — сказала она. И я осталась с ней, а Александр Павлович ушел к себе. Екатерина Андреевна показывала фотографии своих внуков, по которым она так тосковала. Озаренно вглядываясь в их лица, она рассказывала, кому сколько лет, кого как зовут, кто чем занимается. Мы рассматривали внуков от младенчества к детству и юности. Потом в обратном порядке, потом с середины. Так что я отчасти запуталась и раз или два перепутала их имена. «Да что с вами!» — воскликнула Екатерина Андреевна, как бы ставя под сомнение мой рассудок. Чтобы больше не ошибаться, я любовалась внуками молча.
Эту женщину нельзя было огорчать.
Кошки тоже были тут. Сиамские, тигровые, голубые. Они спали, сидели, разговаривали с Екатериной Андреевной…
Но как я жалела, что меня не было в том ночном поезде, когда Образцова рассказывала Ерохину о Марфе! Теперь ни он, ни она сама уже не могут вспомнить в подробностях того рассказа. Это ушло, как из дома уходит теплый воздух…
Забегая вперед, скажу: я начала свои записки в семьдесят шестом году и заканчиваю их в восемьдесят первом. Книга не поезд, который должен прийти точно по расписанию. Но я не подозревала, что путешествие затянется на пять лет. С разных сторон открывалась жизнь Образцовой. Накапливались впечатления, но работа застаивалась в завалах сомнений.
«На мой взгляд, не существует ни разговорного, ни литературного языка живописи, и безумие даже искать ей словесный эквивалент, поскольку живопись сама по себе уже речь о чем-то, однако именно поэтому критик — понимая, разумеется, что можно создать портрет человека, но не портрет портрета, — выпутывается, подменяя словарь, и говорит, когда потрясен живописью, о музыке, танцах, запахах и т. д. …» — писал Луи Арагон в «Анри Матисс, романе».
Леонард Бернстайн в остроумной книге «Музыка — всем» высмеивает Объясняющего Господина с его «сейчас-последует-новое-обращение-темы-во-втором-гобое»…
Выпутываться и подменять словарь я не умела. Роль Объясняющего Господина мне тоже претит.
Правда, Бернстайн смеется и над теми, кто рассказывает анекдоты о жизни музыкантов с бесконечными вариациями на тему «птички-пчелки-ручейки» — «бабушкины сказки», «фальшивые, не относящиеся к делу».
Совет Бернстайна — найти «золотую середину». Но легко сказать — золотая середина!
Что бы ни говорил Ерохин об умении Образцовой анализировать, в ее отношениях с музыкой остается огромная область потаенного, непостижимого, подсознательного. Что происходит с ней там, где, как она признается, чувствует себя блаженно или сгорает, куда она вхожа как завсегдатай, баловень, актриса? В своих попытках проделать путь вспять, в детской доверчивости к словам, к их окончательности она бывает убеждена, что хорошо рассказала тайну таланта и музыки. Печалиться о том, что слова лишь символы, тщащиеся дознаться до смысла и самосмысла того, о чем дознаться нельзя, она предоставляет кому угодно, если вообще догадывается о печали.
Человек органический, живущий сердцем, Образцова боится формул и доктрин, не желая рабски следовать каким бы то ни было установлениям. Боится резонеров, людей умствующих, рассудочно-холодных, но мысли о музыке и — музыкантах снедают ее. Ее своеобразная наивность, эта неизбежная предпосылка всякого творчества, идет рука об руку с интеллектом. Под внешней веселостью, юмором, даже проказливостью скрывается глубокая вдумчивость.