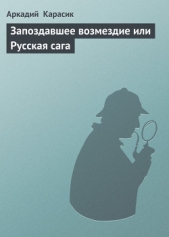Воздыхание окованных. Русская сага

Воздыхание окованных. Русская сага читать книгу онлайн
Окованными можно назвать вообще всех людей, все человечество: и давно ушедших из этого мира, и нас, еще томящихся здесь под гнетом нашей греховной наследственности, переданной нам от падших и изгнанных из «Рая сладости» прародителей Адама и Евы, от всей череды последовавших за ними поколений, наследственности нами самими, увы, преумноженной. Отсюда и воздыхания, — слово, в устах святого апостола Павла являющееся синонимом молитвы: «О чесом бо помолимся, якоже подобает, не вемы, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными».
Воздыхания окованных — это и молитва замещения: поминовение не только имен усопших, но и молитва от имени тех, кто давно уже не может сам за себя помолиться, с упованием на помощь препоручивших это нам, еще живущим здесь.
Однако чтобы из глубин сердца молиться о ком-то, в том числе и о дальних, и тем более от лица живших задолго до тебя, нужно хранить хотя бы крупицы живой памяти о них, какое-то подлинное тепло, живое чувство, осязание тех людей, научиться знать их духовно, сочувствуя чаяниям и скорбям давно отшедшей жизни, насколько это вообще возможно для человека — постигать тайну личности и дух жизни другого. А главное — научиться сострадать грешнику, такому же грешнику, как и мы сами, поскольку это сострадание — есть одно из главных критериев подлинного христианства.
Но «невозможное человекам возможно Богу»: всякий человек оставляет какой-то свой след в жизни, и Милосердный Господь, даруя некоторым потомкам особенно острую сердечную проницательность, способность духовно погружаться в стихию былого, сближаться с прошлым и созерцать в духе сокровенное других сердец, заботится о том, чтобы эта живая нить памяти не исчезала бесследно. Вот почему хранение памяти — не самоцель, но прежде всего средство единение поколений в любви, сострадании и взаимопомощи, благодаря чему могут — и должны! — преодолеваться и «река времен», уносящая «все дела людей», и даже преграды смерти, подготавливая наши души к инобытию в Блаженной Вечности вместе с теми, кто был до нас и кто соберется во время оно в Церкви Торжествующей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Спаси Христос. Вера Жуковская»
Стремительно набирала силу гроза русского урагана, сносящего все и вся на своем пути. Тут уже было не до изысков Серебряного века и мне нравится голос Веры в этом, пусть еще туманном, но уже сильном письме, ее решимость и ее позиция. Начиналось какое-то новое движение в ее душевной жизни, и пока было трудно сказать, во что оно выльется дальше. Скорби, опасности, смерти близких, — вот что теперь надолго приковывало ее сердце и силы. Но пересмотр, а, возможно, и таинство покаяния, как внутреннего отторжения собственной неправоты, в ней уже жило, как и то, что составляло сердцевину ее характера, ее личности — ее любовь к России, к своему Дому.
* * *
«Вдали показалось широкая долина, кое-где поросшая лесом, в глубине заблистела вода. «Вот Керженец», — сказал мне мой спутник, указывая на воду. С волнением смотрела я на знаменитую реку, приют старой веры. Но здесь он совсем не такой, каким я привыкла себе его представлять. Мы подъехали к длинному мосту, и я с огорчением увидала широкие отмели и застрявшие прибитые к берегу плоты, плотно сколоченные из толстых неотесанных бревен. Обмелевший, узкий в низких берегах, покрытых тощими ракитами, Керженец лежал передо мной, точно скованный великан, замученный и обессиленный. «Шибко мелеет, — сказал ямщик. — А уж в тако то лето, как есть, и вовсе ничего воды нет. Гляди под Быбреевкой застряли та плоты, когда это бывало то!? Скоро вовсе сплаву та не будет, как порубят та леса. А в старину та бают под Быдреевской от края до края вода та шла, вестимо та леса были».
Сердце сжимается гнетущей тоской: не один мелеет Керженец: по всей России прошел топор, падают леса. Скоро широкою отмелью покроется она, и некому будет омыть песок…..
Опять потянулась дымное пыльное поле — пашня, терпкая пыль летит в глаза и густым слоем покрывает лицо. Наконец то вдали показалось широко расползшееся село, нигде вокруг ни веточки, ни у одного дома нет сада. «Вот гляди та, — сказал ямщик указывая кнутом куда то неопределенно, — как два та года тому село сгорело та, и деревьев с той поры не стало та. Таперя не садят, бают: все единственно махнонки будут дерева та итти, не жди дурака, для других та работать».
Задумавши изучать жизнь и обычаи староверов, хлыстов и так называемых их «живых богов», Г. Распутина и его окружение, Вера всегда сохраняла дистанцию и в омут, как действующее лицо, не погружалась, сохраняла себя и свою приверженность тем традициям и тому духу, которые восприняла она в семье. Великое дело — помнить и любить свой стан, свой корень. Сердца своего она никаким свои увлечениям не отдавала. Он всегда так и жило в Орехове, на родине со всей родной стариной. «В тайниках сердца человека складывается порок человека или добро человека… чаще внешнее впечатление само по себе не есть добро или зло, оно нейтрально. Его окрашивает встречная волна восприятия, которая идет от сердца, — так замечательно тонко и утешительно поучал священномученик Григорий (Лебедев), епископ Шлиссельбургский в своем Толковании на Евангелие от Марка. — Если во встречной волне будет элемент зла, то и внешнее впечатление получит преобладающую окраску зла. Не будет элемента зла, впечатление воспринимается, как нейтральное».
Вера очень хорошо это понимала, отправляясь в Поволжье с добром и чистым сердцем. Даже и к Распутину она ходила не как разведчик или чей-то лазутчик, как предполагали многие недоброжелательные (и я бы даже сказала — неистовые) критики ее воспоминаний. Она была честным, спокойным и очень добрым по своей «встречной волне восприятия» «списателем» или хроникером картин той жизни. И это в ней подкупает, дает основание с сочувствием и доверием относится к ее текстам, к движениям ее сердца, не воспринимая ее тексты с «встречной волной» зла и подозрительности.
Вера не вторгалась со своим жестким аршином в жизнь, не втискивала и ее в прокрустово ложе каких-то умовых представлений, зато себя, безусловно, судить — и жестоко! — умела. Она знала Евангелие, помнила грешную самарянку, с которой у Иаковля колодца встретился Иисус, женщину, не ставшую перед Христом изображать из себя праведницу, скрывать свою греховную жизнь и своих пятерых мужей, которые на самом деле не были ей мужами, но проявила такую открытость Слову Божию, такую мгновенную горячность и искренность сердца, готовность и доверие Богу, что стала в один ряд в сознании многих поколений и даже на все времена образом особо чуткой к принятию Христа души, — одной из тех душ, ради которых и пришел на землю и претерпел крестную смерть Господь. Это была душа, сознававшая свою болезнь, в отличие от тяжело больных духовно фарисеев, считавших себя вполне достаточно здоровыми, как в той краткой притче, которую приводит в одной из своих проповедей святитель Николай Сербский:
«В одной больнице было множество больных. Одни лежали в жару и с нетерпением ждали, когда же придет врач; другие прогуливались, считали себя здоровыми и не желали видеть врача. Однажды утром врач пришел осмотреть пациентов. С ним был и его друг, который носил больным передачи. Друг врача увидел больных, у которых был жар, и ему стало их жалко. «Есть ли для них лекарство»? — спросил он врача. А врач шепнул ему на ухо: «Для тех, что лежат в жару, лекарство есть, а вот для ходячих нет лекарства… Они больны неизлечимой болезнью; внутри они совсем сгнили».
* * *
«…Голова болела нестерпимо, и меня хватило только на какие-нибудь полтора часа… «Дальше я не пойду, — сказала я моим спутникам. — Вы идите, а я переночую в деревне и чем свет выйду, попутчики наверное найдутся». Они было запротестовали, не желая оставить меня одну, но я сказала, что обо мне совершенно нечего беспокоиться, т. к. я нисколько не боюсь быть одной. Так и сделали.
Простившись с ними, я подошла к крайней избе и постучала под окном. Окно скоро отворилось, и выглянула взлохмаченная голова: «Што тебе та надо?» — довольно приветливо спросил несколько осипший от сна голос. Я сказала, что прошу пустить переночевать. «Ладно то, ступай то на крыльцо, сейчас та пущу», — охотно согласился мужик, но я поспешно опередила его, сказав, что не хочу в избу, а прошу провести меня в сарай. Он казался озадаченным: «Как же та в сарай то, тама никого нетути у нас то, забоишься, родная, одна та», — нерешительно пробормотал он, скребя у себя в затылке. «Это ничего не значит», — заметила я нетерпеливо. От боли я едва держалась на ногах и думала только о том, как бы лечь. «Ну, ладно то, — вдруг решил мужик. — Сына те вышлю, он те проводит то…». И голова скрылась.
Через минуту дверь завизжала, и на крыльцо вышел во всем белом молоденький щупленький мальчишка с огромной овчинной шубой в руках. Подойдя ко мне, он спросил, удивленно оглядывая меня: «Это ты та в амбар та ночевать, что ли?» — «Ну, конечно», — сказала я, это удивление начинало меня раздражать… «На Светло Озеро, што ли?» — спросил он. «На Светлое», — ответила я. «Да неушто ты взаправду та одна та ночевать будешь?» — вдруг останавливаясь, спросил мальчишка, почти с испугом глядя на меня. «А что же тут такого? — сказала я, подходя к двери сарая и берясь за щеколду, — Эта, что ли?» — «Не. Друга-та; вот: рядом-та». Обогнав меня, он открыл ворота, с визгом и скрипом распахнувшиеся. Я вошла в сарай.
«Есть сено?» — спросила я, пробираясь вглубь сарая. Слышно было, как мальчишка кинул шубу. «Не… Сена та нетути!» — смущенно ответил он, идя за мной. «А вот тут-та, в углу-та мох есть-та, сухой, и овсяницы малость; я те перекидаю».
Глаза привыкли к темноте, и все стало видно отчетливо. Перекидав овсяницу и подбив ее, мальчишка, лопоча что-то своей скороговоркой, приготовился расстелить принесенную шубу, но этому я воспротивилась.
«Спасибо, мне не надо, я не люблю, когда жарко». Постелив половину плаща, я легла на мох и укрылась другой. «Ну, спасибо, покойной ночи». — «Господи Иисусе! — внезапно взмолился мальчик, — ужели-же-та и останешься так та: одна? Пойдем ко мне-та, право слово, идем-та: полог-та у меня там… Как же-та одна вовсе?» — «Да что же тут со мной случиться может? — отозвалась я. — Прикрой дверь, только не запирай, а завтра пораньше приди, меня побуди, ну, ступай». — «Ну и бесстрашна та», — пробормотал мальчишка, выходя и тщательно прикрывая ворота. Стало темно, ушел. Я одна.