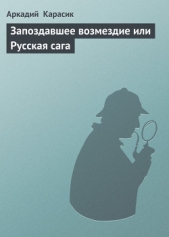Воздыхание окованных. Русская сага

Воздыхание окованных. Русская сага читать книгу онлайн
Окованными можно назвать вообще всех людей, все человечество: и давно ушедших из этого мира, и нас, еще томящихся здесь под гнетом нашей греховной наследственности, переданной нам от падших и изгнанных из «Рая сладости» прародителей Адама и Евы, от всей череды последовавших за ними поколений, наследственности нами самими, увы, преумноженной. Отсюда и воздыхания, — слово, в устах святого апостола Павла являющееся синонимом молитвы: «О чесом бо помолимся, якоже подобает, не вемы, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными».
Воздыхания окованных — это и молитва замещения: поминовение не только имен усопших, но и молитва от имени тех, кто давно уже не может сам за себя помолиться, с упованием на помощь препоручивших это нам, еще живущим здесь.
Однако чтобы из глубин сердца молиться о ком-то, в том числе и о дальних, и тем более от лица живших задолго до тебя, нужно хранить хотя бы крупицы живой памяти о них, какое-то подлинное тепло, живое чувство, осязание тех людей, научиться знать их духовно, сочувствуя чаяниям и скорбям давно отшедшей жизни, насколько это вообще возможно для человека — постигать тайну личности и дух жизни другого. А главное — научиться сострадать грешнику, такому же грешнику, как и мы сами, поскольку это сострадание — есть одно из главных критериев подлинного христианства.
Но «невозможное человекам возможно Богу»: всякий человек оставляет какой-то свой след в жизни, и Милосердный Господь, даруя некоторым потомкам особенно острую сердечную проницательность, способность духовно погружаться в стихию былого, сближаться с прошлым и созерцать в духе сокровенное других сердец, заботится о том, чтобы эта живая нить памяти не исчезала бесследно. Вот почему хранение памяти — не самоцель, но прежде всего средство единение поколений в любви, сострадании и взаимопомощи, благодаря чему могут — и должны! — преодолеваться и «река времен», уносящая «все дела людей», и даже преграды смерти, подготавливая наши души к инобытию в Блаженной Вечности вместе с теми, кто был до нас и кто соберется во время оно в Церкви Торжествующей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я хочу еще сказать Вам несколько слов о моем задуманном романе, он называется «Одержимые», и проводит ту мысль, что все люди (есть) чем ни то да одержимые, причем одержимость прямо пропорциональна таланту; попутно с этим в нем детально разбирается дилемма о женщине Дон Жуане. В общем, это будет хроника нашего рода, давшего такого гениального потомка, каким был Н.Е. и таких изумительных по силе духа женщин как мои две прабабушки и бабушка — мать Н.Е., а под конец, — образец истинно бесовской одержимости, как Ваша покорная слуга, которую в средние века обязательно сожгли бы на костре, — но «я из рода саламандр: не сгораю на кострах…», и хотя давно уже с истинно бесовской беспечностью жгу мою жизнь с двух концов, но до сих пор как видите, жива и даже умудряюсь вывертываться из самых рискованных положений.
Но это уже не для секретаря — прошу у него, или у нее, извинения за невольно вырвавшуюся фразу и кончаю письмо во избежание соблазна. А очень бы хотелось с Вами побеседовать…»
Долго колебалась я — публиковать ли это — одно из самых горчайших писем Веры, адресованное В. Бонч-Бруевичу, который ей не раз помогал, спасал ее даже и от ареста, и не только ее, но и тех людей, за которых она просила его по старой памяти (в частности, Вериным хлопотам и заступлению Бонч-Бруевича обязан жизнью мой дед Иван Домбровский), но потом все же решилась я это письмо «открыть», уповая только на одно — на веру в созидательную силу Истины Христовой, без чего мы вообще не можем найти спасительной пользы в размышлениях о жизни человеческой, исполненной, увы, даже, в казалось бы, «безгрешных» личностях неправд и греха; никогда бы не смогли найти того единственно верного и спасительного подхода к ошибкам и падениям своим — и других, и, наконец, к борьбе человека с самим собой за восстановление в себе образа и подобия Божия.
…Передо мной лежало Евангелие, раскрытое на том месте, где повествуется о том, как ко Христу приводят грешницу, застигнутую в прелюбодеянии. «Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?» (Ин.8:4–5).
Закон Моисея ставил плотский грех, грех прелюбодеяния в ряд преступлений, которые карались смертной казнью. Зачем же тогда эти еврейские начальники привели грешницу к Иисусу, коли и так могли превратить в кровавое месиво? Ответ очевиден: они хотели устроить Иисусу ловушку: или Он по милосердию Своему освободит грешницу и тогда нарушит закон и Сам будет повинен казни, или же исполнит закон, одобрив их действия, но в таком случае нарушит собственную заповедь о прощении и милосердии. В этом случае Он был бы осмеян и посрамлен. «Может быть, в этой толпе были и такие, кто, затаив дыхание, ожидали от Иисуса чего-то третьего, великого и неизвестного?», — вопрошал один из толкователей этого эпизода святитель Николай Сербский (Велимирович).
Хитра и опасна ловушка фарисейская. Шах и мат. Кажется, выхода нет. Закон есть закон. Закон грешницу осудил — смерть ей. Осуди и ты. И мы часто, не отдавая себе в том отчета, попадаем в эту ловушку фарисеев, которые говорят нам, что существует только два пути, два способа отношения к грешникам: черный — осуждение грешника вплоть до побиения камнями до смерти, и белый — оправдание грешника, и тем самым подписывание смертельного приговора самому себе, как покрывателю и оправдателю греха, как ставшему тем самым его соучастником.
Два пути — черный и белый — это Ветхий завет. Но есть третий путь — путь Нового Завета, который принес в мир Господь Иисус Христос: то самое «великое и неповторимое», никогда доселе не бывшее, заключавшее в себе не новую мораль, не примирение двух позиций, дальше которых и мы, именуемые христианами, все никак не можем уйти, но совершенно новую жизнь, полное обновление человеческого сердца, новые законы бытия, которые зиждились бы только на одном слове и понятии и образе действия: Любви.
Той Любви, которая: долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, «не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Любви, которая «никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13: 4–8).
Что же тогда ответил Христос фарисеям? Святитель Николай Сербский приводит народное предание о том, что же в тот момент перстом Своим, склонившись, начертывал на пыли и песке Иисус… А писал Он самые тайные беззакония и ото всех сокрытые грехи обвинителей, о которых никто не знал, кроме Него и их самих. «Они же, услышав т о и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:9).
Можем ли мы понимать это как неосуждение Господом греха? Можем, если только мы согласимся признать себя фарисеями. Евфимий Зигабен, византийский богослов и экзегет, строгий монах, замечательный толкователь Священного Писания XII века, говорит иначе: Иисус Христос знал, что грешница раскаялась всем сердцем и достаточным для неё наказанием служила публичность её посрамления перед многочисленными свидетелями. Другие богословы считают, что Иисус и простил смертный грех этой женщине, поскольку в других евангельских эпизодах подобных этому, Он обычно прямо говорит: прощаются тебе грехи (Мф.9:2; Мк.2:5; Лк.5:20 и др.).
* * *
Увы, не гладко и не безоблачно, не по прописям строгих моралистов слагался жизненный путь Веры Александровны, впрочем, как и почти всего ее поколения. Идти против толпы не всякий человек способен — единицы, и это действительно трудно, если даже, как мы знаем, и дети священников в большинстве своем в XX веке уже совсем теряли живую веру в Бога и связанный с ним благочестивый образ жизни. Единицы священнических потомков жили в венчанных браках, избегали разводов и супружеских измен. Большинство поддавалось веяниям времени и его жесткому диктату. Уже внуков священнических редко крестили… Только глубокая и подлинная вера, просветленная и просвещенная — да, богословски просвещенная (святые отцы говорили, что христианин не только не может, но должен богословствовать!) и опытно, молитвенно, благодатно обеспеченная, давала человеку силу стоять хоть и в одиночку на страже святыни своего сердца.
В 1919 году устав терпеть капризы Константина, — он не умел, не желал и, возможно, даже не мог удерживаться на службах, на которые его устраивали то Жуковский, то тесть его Микулин, он привык жить, как поэт, свободно и полубогемно, — Вера развелась с ним. Распался венчанный брак. Впоследствии у Веры было два очень кратких гражданских брака, после каждого из них она вдовела, а затем затяжное и глубокое одиночество до самого конца жизни. О каких-либо флиртах ее мне неизвестно. Об этом никогда в семье не говорили: все очень любили и берегли друг друга. Знаю верно одно, что искушение выглядеть смелой, свободной и храброй лежало у Верочки на поверхности души, — глубины сердца своего она ничему этому не отдавала. Слишком сильна была в ней привязанность семейная, любовь к своему корню. Она выросла в очень патриархальной среде, в чистоте безупречных отношений друг к другу всех в семье, и в особенности родителей, благоговейно хранивших до конца жизни святыню своей любви, да и всех других близких. Отсюда, из этого святого корня возрастала ее природная мягкость, доверчивость, доброта, ее домашность, даже ее особенная непосредственность. Вера не порвала с той великой тягой к семейственности, очарование которой отличало мир Жуковских. Она вся принадлежала к этому миру. И собственные впоследствии временные уклонения от того, на чем стояла жизнь Жуковских и Микулиных, наносили прежде всего ей самой тягчайшие раны. Она не хотела так жить и потому сама себя жестоко судила.