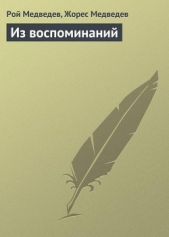О, мед воспоминаний

О, мед воспоминаний читать книгу онлайн
Дом свой мы зовем „голубятней". Это наш первый совместный очаг. Голубятне повезло: здесь написана пьеса „Дни Турбиных", фантастические повести „Роковые яйца" и „Собачье сердце" (кстати, посвященное мне). Но все это будет позже, а пока Михаил Афанасьевич работает фельетонистом в газете „Гудок". Он берет мой маленький чемодан по прозванью „щенок" (мы любим прозвища) и уходит в редакцию. Домой в „щенке" приносит он читательские письма — частных лиц и рабкоров. Часто вечером мы их читаем вслух и отбираем наиболее интересные для фельетона. Невольно вспоминается один из случайных сюжетов. Как-то на строительстве понадобилась для забивки свай копровая баба. Требование направили в главную организацию, а оттуда — на удивленье всем — в распоряжение старшего инженера прислали жену рабочего Капрова. Это вместо копровой-то бабы!"
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Застолье длилось часов пять. Тост следовал за тостом. Только и слышалось „алаверды к вам, алаверды к вам". Был момент, когда за соседним столом внезапно разгорелась ссора: двое вскочили, что-то гортанно крича, сбросили пиджаки на край маленького водоема, где плавали любимые грузинские рыбки и… я закрыла глаза, чтобы не видеть поножовщины, а когда открыла их, они оба сидели за столом и мирно чокались своим излюбленным кахетинским…
Купаемся в солнце. Купаемся в серных банях. Ходили через Верийский спуск в старый город, в Закурье. А Кура быстрая и желтая. Уж в ней-то ни капельки не хочется искупаться. То висячий балкон, то каменные ступени крутой, карабкающейся на гору лестницы вдруг остро напомнят мне Константинополь…
Наше пребывание в Тифлисе чуть не омрачилось одним происшествием. Как-то уже к вечеру О.К.Туркул пришла за нами звать в кино. М.А. отказался, сказал, что приляжет отдохнуть (он всегда спал после обеда, хотя уверял со своей милой покупающей улыбкой, что он не спит, а „обдумывает" новое произведение). Я ушла в кино и ключ от номера взяла с собой, заперев собирающегося спать Маку… Что-то мы с O.K. немного задержались, и, когда подходили к „Орианту", я поняла: что-то произошло.
Пароконные извозчики, стоявшие вереницей у гостиницы, весело перекликались и поглядывали на одно из окон. До предела высунувшийся из окна взъерошенный М.А., увидев меня, крикнул на весь проспект Руставели:
— Я не ожидал от тебя этого, Любаша!
Внизу, в вестибюле, на меня накинулся грузин-коридорный:
— Зачэм ушла? Зачэм ключ унесла? Он такой злой, такой злой. Ключ трэбует…
Ногами стучит.
— Так неужели второго ключа у вас нет?
— Второго нэт…
Та же О.К. привела нас на боковую улицу в кондитерскую и познакомила с хозяйкой-француженкой, а заодно и с ее внучкой Марикой Чимишкиан, полуфранцуженкой-полуармянкой, молодой и очень хорошенькой девушкой, которая потом много лет была связана с нашей семьей. Ей выпала печальная доля дежурить у постели умирающего писателя Булгакова в качестве сестры милосердия и друга…
Хотелось посмотреть город. М.А. нанял машину, и мы покатались вволю, а вечером пошли в театр смотреть „Ревизор" со Степаном Кузнецовым. Недалеко от нас в ложе сидела пожилая грузинка в национальном наряде: низкая шапочка надвинута на лоб, по бокам лица спускаются косы. Сзади к шапочке приколота прозрачная белая вуаль.
Все в Тифлисе знали эту женщину — мать Сталина.
Я посмотрела первое действие и заскучала.
— Вот что, братцы, — сказала я Маке и Марике, — после Мейерхольда скучновато смотреть такого „Ревизора". Вы оставайтесь, а я пойду пошляюсь (страшно люблю гулять по незнакомым улицам).
Теперь самое время повернуть память вспять, в 1926 год — когда Мейерхольд поставил „Ревизора". Мы с М.А. были на генеральной репетиции и, когда ехали домой на извозчике, так спорили, что наш возница время от времени испуганно оглядывался.
Спектакль мне понравился, было интересно. Я говорила, что режиссер имеет право показывать эпоху не только в мебели, тем более, если он талантливо это делает, а М.А, считал, что такое самовольное вторжение в произведение искажает замысел автора и свидетельствует о неуважении к нему. По-моему, мы, споря, кричали на всю Москву…
Уже начала мая. Едем через Батум на Зеленый Мыс.
Батум мне не понравился. Шел дождь, и был он под дождем серый и некрасивый.
Об этом я в развернутом виде написала в письме к Ляминым, но мой „цензор" — М.А. — все вычеркнул.
Это удивительно, до чего он любил кавказское побережье — Батуми, Махинджаури, Цихидзири, но особенно Зеленый Мыс, если судить по „Запискам на манжетах", большей радости там в своих странствиях он не испытывал. „Слезы такие же соленые, как и морская вода," — написал он.
Зеленый Мыс у него также упоминается в пьесе „Адам и Ева". Герой и героиня мечтают стряхнуть с себя все городские заботы и на полтора месяца отправиться в свадебное путешествие на Зеленый Мыс.
Здесь мы устроились в пансионе датчанина Стюр, в бывшей вилле князей Барятинских, к которой надо подниматься, преодолев сотню ступеней. Мы приехали, когда отцветали камелии и все песчаные дорожки были усыпаны этими царственными цветами. Больше всего меня поразило обилие цветов… „Наконец и у нас тепло, — пишу я Ляминым. — Вчера видела знаменитый зеленый луч. Но не в нем дело. Дело в цветах. Господи, сколько их!" В конце письма Мака делает приписку: „Дорогие Тата и Коля! Передайте всем привет. Часто вспоминаю вас. Ваш М."
Когда снимали фильм „Хромой барин" по роману А.Толстого, понадобилась Ницца. Лучшей Ниццы, чем этот уголок, в наших условиях трудно было и придумать.
Нас устроили в просторном помещении с тремя огромными, как в храме, окнами, в которые залетали ласточки и, прорезав в полете комнату насквозь, попискивая, вылетали. Простор сказывался во всем: в планировке комнат, террас, коридоров. В нижнем этаже находились холл и жилые комнаты Стюров — веселого простодушного хозяина-датчанина, говорившего „щукаль" вместо „шакал", его хорошенькой и кислой русской жены и 12-летней дочери Светланы, являвшей собой вылитый портрет отца.
Из Чиатур с марганцевой концессии приезжали два англичанина со своими дамами и жила — проездом на родину — молодая миловидная датчанка с детьми, плюс мы двое.
Было жарко и влажно. Пахло эвкалиптами. Цвели олеандровые рощи, куда мы ходили гулять со Светланой, пока однажды нас не встретил озабоченный М.А. и не сказал:
— Тебе попадет, Любаша.
И действительно, мадам Стюр, холодно глядя на меня, сухо попросила больше не брать ее дочь в дальние прогулки, т. к. сейчас кочуют курды и они могут Светлану украсть.
Эта таинственная фраза остается целиком на совести мадам Стюр.
Михаил Афанасьевич не очень-то любил пускаться в дальние прогулки, но в местный Ботанический сад мы пошли чуть ли не на другой день после приезда и очень обрадовались, когда к нам пристал симпатичный рыжий пес, совсем не бездомный, а просто, видимо, любящий компанию. Он привел нас к воротам Ботанического сада. С нами вошел, шел впереди, изредка оглядываясь и, если надо, нас поджидая. Мы сложили двустишие:
Человек туда идет,
Куда пес его ведет.
Осмотрев сад, мы все трое вышли в другие ворота. Широкие коридоры нашей виллы освещались плохо, и я, начитавшись приключений вампира графа Дракулы, боялась ходить в отдаленный уголок и умоляла М.А. постеречь в коридоре, при этом просила петь или свистеть. Помню, как он пел „Дивные очи, очи, как море, цвета лазури небес голубых" и приговаривал: „Господи, как глупо!" — и продолжал — „…то вы смеетесь, то вы грустите…"
Конечно, это было смешно, но граф Дракула требовал жертв…
Стоит посмотреть на фотографию М.А., снятую на Зеленом Мысе, и сразу станет ясно, что был он тогда спокоен и весел.
После Зеленого Мыса через Военно-Грузинскую дорогу во Владикавказ (Орджоникидзе). Наша машина была первая, пробравшаяся через перевал. Ничего страшного не случилось: надели цепи, разок отваливали снег. Во Владикавказе нас как первую ласточку встречали какие-то представители власти и мальчишки кричали „ура".
Поезд наш на Москву уходил в 11 часов ночи. Мы гуляли по городу. М.А. не нашел, чтобы он очень изменился за те 6–7 лет, которые прошли со времени его странствий.
Запомнилось мне, что цвела сирень и было ее очень много. Чтобы убить время, мы взяли билеты в театр лилипутов. Давали оперетту „Баядера". Зал был переполнен. Я никогда не видела такого смешного зрелища — будто дети играют во взрослых. Особенно нас пленил герой-любовник. Он был в пробковом шлеме, размахивал ручками, а голосом старался изобразить страсть. Аплодисменты гремели. Его засыпали сиренью.
Потом дома, в Москве, Мака изображал актеров-лилипутов с комической каменной физиономией и походкой на негнущихся ногах, при этом он как-то особенно поводил головой.