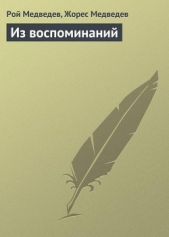О, мед воспоминаний

О, мед воспоминаний читать книгу онлайн
Дом свой мы зовем „голубятней". Это наш первый совместный очаг. Голубятне повезло: здесь написана пьеса „Дни Турбиных", фантастические повести „Роковые яйца" и „Собачье сердце" (кстати, посвященное мне). Но все это будет позже, а пока Михаил Афанасьевич работает фельетонистом в газете „Гудок". Он берет мой маленький чемодан по прозванью „щенок" (мы любим прозвища) и уходит в редакцию. Домой в „щенке" приносит он читательские письма — частных лиц и рабкоров. Часто вечером мы их читаем вслух и отбираем наиболее интересные для фельетона. Невольно вспоминается один из случайных сюжетов. Как-то на строительстве понадобилась для забивки свай копровая баба. Требование направили в главную организацию, а оттуда — на удивленье всем — в распоряжение старшего инженера прислали жену рабочего Капрова. Это вместо копровой-то бабы!"
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Критик пророчит гибель театру и добавляет зловеще: как веревка поддерживает повесившегося, так и успех пьесы, сборы, которые она делает, не спасут Московский Художественный театр от смерти.
Когда сейчас перечитываешь рецензии тех лет, поражаешься необыкновенной грубости. Даже тонкий эрудит Луначарский не удержался, чтобы не лягнуть Булгакова, написав, что в пьесе „Дни Турбиных" — атмосфера собачьей свадьбы („Известия", 8 октября 1926 г.). Михаил Афанасьевич мудро и сдержанно (пока!) относится ко всем этим выпадам.
„Зойкина квартира" идет тоже с аншлагом. В ознаменование театральных успехов первенец нашей кошки Муки назван „Аншлаг".
В доме также печь имеется,
У которой кошки греются.
Лежит Мука, с ней Аншлаг.
Она — эдак, А он так.
Это цитата из рукописной книжки „Муки-Маки", о которой я упоминала выше. Стихи Вэдэ, рисунки художницы Н. А. Ушаковой. Кошки наши вдохновили не только поэта и художника, но и проявили себя в эпистолярном жанре. У меня сохранилось много семейных записок, обращенных ко мне от имени котов. Привожу, сохраняя орфографию, письмо первое. Надо признаться: высокой грамотностью писательской коты не отличались.
Дорогая мама!
Наш миый папа произвъ пъръстоновку в нешей уютной кварти. Мы очень довольны (и я Аншлаг помогал, чуть меня папа не раздавил, кагда я ехал на ковре кверху ногами). Папа очень сильный один все таскал и добрый не ругал, хоть он и грыз крахмальную руба. а тепър сплю, мама, на тахте. И я тоже. Только на стуле. Мама мы хочем, чтоб так было как папа и тебе умаляим мы коты все, что папа умный все знаит и не менять. А папа говорил купит. Папа пошел а меня выпустил. Ну целуем тебе. Вы теперь с папой на тахте. Так что меня нет.
Увожаемые и любящие коты.
Котенок Аншлаг был подарен нашим хорошим знакомым Строиским. У них он подрос, похорошел и неожиданно родил котят, за что был разжалован из Аншлага в Зюньку.
На обложке книжки „Муки-Маки" изображен Михаил Афанасьевич в трансе: кошки мешают ему творить. Он сочиняет „Багровый остров".
А вот еще там же один маленький портрет Михаила Афанасьевича. Он в пальто, в шляпе, с охапкой дров (у нас печное отопление), но зато в монокле. Понятно, что карикатура высмеивает это его увлечение. Ох, уж этот монокль! Зачастую он вызывал озлобление, и некоторые склонны даже были рассматривать его как признак ниспровержения революции.
В это же время мы оба попали в детскую книжку Маяковского „История Власа, лентяя и лоботряса" в иллюстрациях той же Н.А.Ушаковой.
Полюбуйтесь: вот мы какие, родители Власа. М.А. ворчал, что некрасивый.
К сожалению пропала или уничтожена книжка Гастона Леру „Человек, который возвратился издалека" в переводе Мовшензона. Н.А.Ушакова рисовала цветными карандашами прямо по печатному тексту, который приблизительно звучал так: „По утрам граф и графиня выходили на крыльцо своего замка. Графиня ласкала своих борзых…" (Граф — М.А., графиня — я).
Остроумные комментарии от имени переводчика написал Коля Лямин. А страшные места?
Синим карандашом была изображена костлявая рука привидения, сжимающая фитиль зажженной свечи.
„Любочка и Мака! Этого на ночь не читывайте!"
Это было такое веселое талантливое озорство. Я до сих пор огорчаюсь, что какие-то злые руки погубили эту книжку.
В книжке „Муки-Маки" изображена разрисованная печь: это я старалась. Мне хотелось, чтобы походило на старинные изразцы. Видно, это и пленило проходившего как-то мимо нашей открытой двери жильца нашего дома — наборщика.
— У вас очень уютно, как в пещере, — сказал он и попросил поехать с ним в магазин и помочь ему выбрать обои для комнаты. Я согласилась. Михаил Афанасьевич только ухмылялся. В Пассаже нам показывали хорошие образцы, гладкие, добротные, но мой спутник приуныл и погрузился уже в самостоятельное созерцание развешанных по стенам образчиков. И вдруг лицо его просветлело.
— Я нашел, — сказал он, сияя. — Вы уж извините. Мне как страстному рыболову приятно посмотреть: тут вода нарисована! И правда, в воде стояли голенастые цапли. В клюве каждая держала по лягушке.
— Хоть бы они рыбу ели, а то ведь лягушек, — слабо возразила я.
— Это все равно — зато вода. Потом М.А. надо мной подтрунивал: „Контакт интеллигенции с рабочим классом не состоялся: разошлись на эстетической платформе," — шутил он.
Никаких писателей у нас в Левшинском переулке не помню, кроме Валентина Петровича Катаева, который пришел раз за котенком. Больше он у нас никогда не бывал ни в Левшинском, ни на Б. Пироговской. Когда-то они с М.А. дружили, но жизнь развела их в разные стороны. Вспоминаю бывавшего в тот период небольшого элегантного крепыша режиссера Леонида Васильевича Баратова и артиста театра Корша Блюменталь-Тамарина, говоруна и рассказчика — впрочем, черты эти характерны почти для всех актеров…
К обычному составу нашей компании прибавились две сестры Гинзбург. Светлая и темная, старшая и младшая, Роза и Зинаида. Старшая, хирург, была красивая женщина, но не библейской красотой, как можно было бы предположить по имени и фамилии.
Наоборот: нос скорее тупенький, глаза светлые, волосы русые, слегка, самую малость, волнистые… Она приехала из Парижа. Я помню ее на одном из вечеров, элегантно одетую, с нитками жемчуга вокруг шеи, по моде тех лет. Все наши мужчины без исключения ухаживали за ней. Всем без исключения одинаково приветливо улыбалась она в ответ.
Обе сестры были очень общительны. Они следили за литературой, интересовались театром. Мы не раз бывали у них в уютном доме в Несвижском переулке.
Как-то раз Роза Львовна сказала, что ее приятель-хирург, которого она ласково назвала „Мышка", сообщил ей, что у его родственника-арендатора сдается квартира из трех комнат. Михаил Афанасьевич ухватился за эту мысль, съездил на Большую Пироговскую, договорился с арендатором, вернее, с его женой, которая заправляла всеми делами. И вот надо переезжать.
Наступил заключительный этап нашей совместной жизни: мы вьем наше последнее гнездо…
ПОСЛЕДНЕЕ ГНЕЗДО
В древние времена из Кремля по прямой улице мимо Девичья Поля ехали в Новодевичий монастырь тяжелые царские колымаги летом, а зимой расписные возки. Не случайно улица называлась Большая Царицынская…
Если выйти из нашего дома и оглянуться налево, увидишь стройную шестиярусную колокольню и очертания монастыря. Необыкновенно красивое место. Пожалуй, одно из лучших в Москве.
Наш дом (теперь Большая Пироговская, 35-а) — особняк купцов Решетниковых, для приведения в порядок отданный в аренду архитектору Стую. В верхнем этаже — покои бывших хозяев. Там быца молельня Распутина, а сейчас живет застройщикархитектор с женой.
В наш первый этаж надо спуститься на две ступеньки. Из столовой, наоборот, надо подняться на две ступеньки, чтобы попасть через дубовую дверь в кабинет Михаила Афанасьевича. Дверь эта очень красива, темного дуба, резная. Ручка — бронзовая птичья лапа, в когтях держащая шар… Перед входом в кабинет образовалась площадочка. Мы любим это своеобразное возвышение. Иногда в шарадах оно служит просцениумом, иногда мы просто сидим на ступеньках как на завалинке. Когда мы въезжали, кабинет был еще маленький. Позже сосед взял отступного и уехал, а мы сломали стену и расширили комнату М.А. метров на восемь плюс темная клетушка для сундуков, чемоданов, лыж.
Моя комната узкая и небольшая: кровать, рядом с ней маленький столик, в углу туалет, перед ним стул. Это все. Мы верны себе: Макин кабинет синий. Столовая желтая.
Моя комната — белая. Кухня маленькая. Ванная побольше.
С нами переехала тахта, письменный стол — верный спутник М.А., за которым написаны почти все его произведения, и несколько стульев. Два экзотических кресла, о которых я упоминала раньше, кому-то подарили. Остальную мебель, временно украшавшую наше жилище, вернули ее законному владельцу Сереже Топленинову. У нас осталась только подаренная им картина маслом, подписанная: „Софроновъ, 17 г.". Это натюрморт, оформленный в темных рембрандтовских тонах, а по содержанию сильно революционный: на почетном месте, в серебряной вазе — картошка, на переднем плане, на куске бархата — луковица; рядом с яблоками соседствует репа. Добрые знакомые разыскали мебель: на Пречистенке жила полубезумная старуха, родственники которой отбыли в дальние края, оставив в ее распоряжение большую квартиру с полной меблировкой, а старуху начали теснить, пока не загнали под лестницу. От мебели ей надо было избавляться во что бы то ни стало. Так мы купили шесть прекрасных стульев, крытых васильковым репсом, и раздвижной стол-„сороконожку". Остальное — туалет, сервант, кровать — приобрели постепенно, большей частью в комиссионных магазинах, только диван-ладью купили у знакомых (мы прозвали ее „закорюка"). Старинный торшер мне добыла Лена Понсова.