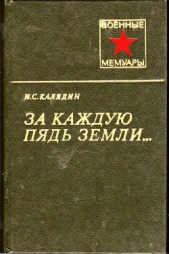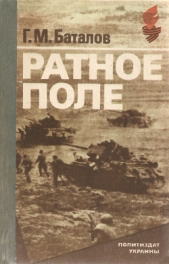Прошлое с нами (Книга вторая)

Прошлое с нами (Книга вторая) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Его сознание витало в чуждом непостижимом пространстве. Нет нигде ни начала, ни конца, никаких устоев, зияла только жуткая, непримиримо враждебная пустота — преддверие в потусторонний мир. Людей я не видел. В беспросветной мгле являлось на миг нечто лишнее, ненужное, неприятно контрастное. Маленькие, как в перевернутом бинокле, существа — карлики — суетились вокруг моей постели, кажется, спорили и сердились, ничтожные в своем бессилии. Они не могут унять боль! Но кто-то же в этом ужасающем мире, если не люди... так вещи должны откликнуться на зов еще не умершего человека. Он не желал выносить бесконечную пытку. Довольно!
Разве ради себя сражался воин? За чью вину эти муки? И белые халаты теперь пекутся о нем, спасают жизнь. Наглые лицемеры. Кому нужно существование, потерявшее всякий смысл? Неужели присяга не ограждает воина от произвола этих... людей? Его не страшит смерть... укрыться мглой и все! Зачем отодвигать неизбежный конец. Игра в прятки.
Умирающий взывал в предсмертных судорогах. И все вокруг безмолвствовало. Никто не слышал слов, лишенный сил, он говорил беззвучно. Люди не в состоянии приостановить агонию. О, лучше бы ему не родиться!
Повторное введение крови привело к общей гангрене. А потом меня изводили запахи, табачный дым за дверью, даже на улице, — вызывал долгую, неуемную рвоту. Пищи никакой я не принимал. Мне совали в разведенные ножом челюсти ложку какой-то гадости. И только пил.
Известно ли, где войска добывают воду на поле боя? В ближайшем колодце, либо в луже после дождя. Но если в районе позиции или поблизости протекала река, ждать никто не станет. Черпают котелками или ладонью под ногами журчащую воду.
Я не пил ничего другого, только воду из Днепра. Никакие ухищрения врачебного персонала не помогали. Едва прикоснувшись губами, умирающий отслонялся и не желал пить ни из колодца, ни из другого источника, ни подслащенную, ни чистую воду. И мыслимо ли? Медсанбат, захлестнутый беспрерывным потоком раненых — персонал держался на ногах лишь с помощью крепчайшего чая, вместо махорки курил чай — направлял повозку за полтора десятка километров только для того, чтобы подвезти канистру воды, утолить жажду пышущего жаром общего заражения крови агонизирующего больного.
Не ручаюсь, смог бы ли я провести черту между тем, что узнал со слов других, и тем, что вернула воскресшая память из периода моего существования в небытии. Человек теряет всякую ориентацию и не отдает себе ни малейшего отчета о том, что с ним происходит. Способность к последовательному мышлению восстанавливается медленно, гораздо медленней, чем прибывает в сосуды пролитая кровь.
Третий раз я пришел в себя от того, что моя постель валилась куда-то в неудержимом падении. Чья-то рука закрыла мои глаза, в просвете пальцев я увидел на мгновение небо. У изголовья надрывно гудел двигатель. Дрожала постель и проваливалась вниз вместе с потолком и стенами, дрожала обшивка, дрожала ладонь, закрывшая мне глаза.
Где-то совсем близко послышался гул, заглушив все звуки, и стал удаляться. Мои носилки подскочили и тут же опустились на пол.
Что это значит? Я хотел поглядеть — боль сковала тело, не пошевелиться. Гул нарастал, усиливался с угрожающей быстротой. Мне, кажется, знаком этот звенящий вой. Близко мелькнул крест на фюзеляже «мессершмитта». Самолет, в котором я нахожусь, преследуют истребители, их два, потому что гул исходит с двух сторон. «Мессершмитты» проносились совсем рядом, крыло в крыло, повергая раз за разом в трепет ладонь, закрывшую мне глаза. Что-то произойдет сейчас... сию минуту... должно произойти... неминуемо... Я ждал с любопытством и радостью, но истребители прошли за иллюминатором третий, четвертый раз на одной высоте, не ниже и не выше, и удалились без единого выстрела.
Только слышались двухтактные выхлопы в одном тоне. Через какое-то время мой самолет пошел на снижение и начал подпрыгивать, приземляясь. Плакавшая навзрыд сестра отняла, наконец, свою ладонь. Дохнуло свежим воздухом. Мимо прошел, согнувшись, пилот в очках на шлеме. Люк открылся.
Моросил дождь. В серой мгле приближалась санитарная машина. На землю прыгали члены экипажа, сестра, сержант Павлов — мой ординарец — и шумно обнимались с людьми, которые на аэродроме наблюдали загадочное поведение «мессершмиттов».
Найду ли я свидетелей этого происшествия в воздухе? Вот что пишет, упоминая этот полет, сестра из медсанбата 340-й СД Мария Полинская, та, что провела у моей постели на хуторе Ковалин более двух недель, не смыкая глаз, с начала и до конца гангрены.
(OCR : Нечитаемое письмо, стр. 575–578.)
Почему «мессершмитты» не расстреляли беспомощный тихоход У-2, на борту которого я находился? Санитарных знаков У-2 не имел. Руку пилота удержал белый халат сестры? Или «мессершмитты» раньше израсходовали боеприпасы и, встретив У-2, облетали его, колебля своими винтами фанерную обшивку, чтобы нагнать страх на экипаж?
Не стану гадать, но этот случай вернул меня в мир реальных вещей и вновь связал оборванную нить моей судьбы.
Санитарная полуторка тащилась по ухабистой улице, буксовала, поворачивала. Наконец, заскрипели тормоза, и машина остановилась у ворот деревенского дома. Мои носилки проследовали через калитку, сопровождаемые какими-то людьми, и я оказался в комнате, просторной и чистой.
Моя койка стоит у окна. Дождь не переставал. В стекло тихо стучат капли и струятся слезами. Комнату наполнял запах чебреца и яблок. За окном огромный ясень качал под ветром голыми ветвями. Сестра поминутно поправляет подушки. Две-три женщины с печальными лицами молча сидят напротив. Под стеной понурил голову Павлов. Что случилось? Я обратился к ординарцу. Пусть подойдет ближе. Павлов не двинулся, будто не слышал. Я повторил просьбу во весь голос и с ужасом почувствовал, что язык не поворачивался, губы точно не мои. Голова кружилась, к горлу подкатывала тошнота. Сестра подтянула к подбородку одеяло. Меня знобило.
Утром на следующий день я снова увидел в окне ясень и струйки, сбегавшие вниз по стеклу. Нельзя ни двинуться, ни повернуть голову. Попытка проследить за собакой во дворе вызвала приступ боли. Дышать больно, глядеть больно, говорить больно. Но я уже знаю: боль убывала, если не двигаться, не делать глубоких вздохов.
Больше всего меня радует то, что исчезла невыносимая ломота, ощущение, что мое тело разрывается изнутри на части. Я не напрягал усилий, чтобы удержать на подушке голову, свисавшую непрерывно то туда, то сюда.
В мыслях невообразимый хаос. Я не мог никак сосредоточить внимание, восстановить последовательность событий, обрывки которых теснятся бессвязно и отягощают память. Меня занимало лишь то, что усиливает либо ослабляет боль. По-видимому, я вырвался из объятий смерти, потому что всякая вещь, все, что попадалось на глаза, обретает свои привычные очертания, имеет форму, не двоится, не троится, не расползается вдруг без всякой причины в мучительном многообразии. Исчезли кружала и жуткая, бездонная дыра. За окном вот он, ясень, я слышу собачий лай, подушка под головой. Как хорошо на белом свете!
Меня уже не раздражало непонятное молчание Павлова, не тревожит загадочность положения. Мягкая постель, молчаливо торжественные лица женщин, сидящих напротив, и тишина рождали безотчетное чувство надежды и покоя.
Вознесенный радостью неожиданного избавления в другую крайность, я был всецело захвачен иллюзией вновь обретенной жизни. Но что-то угнетало мой дух, я мучительно напрягал память в тщетном стремлении разгадать, найти объяснение происходящему. И не находил.
Зачем я здесь, в этой комнате? Павлов — мой ординарец... понятно, а остальные? Где мои орудия, телефонисты, ровики? И кто эти женщины? Откуда? Я никогда не видел их прежде и не припоминаю ни одного лица. Нет... Нет... это сестры — одна медсанбатовская, другая — здешняя, из госпиталя, третья — Надежда Щепанская, хозяйка дома. Медсанбатовская сестра много раз собиралась уезжать, но что-то задерживало ее... не уехала и сегодня. В комнате часто появлялась Марта Вильгельмовна — немка, лечащий врач, и Анастасия Ивановна, начальник отделения, — пожилая торопливая женщина со шпалой на петлицах военврача третьего ранга.