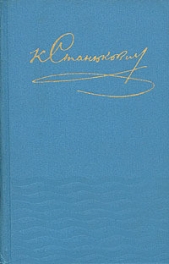Сборник статей, воспоминаний, писем
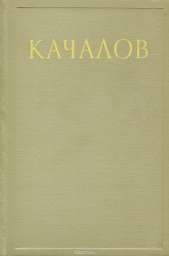
Сборник статей, воспоминаний, писем читать книгу онлайн
Задача этой книги - запечатлеть в статьях, воспоминаниях и письмах образ гениального русского артиста, вдохновенного художника советского театра Василия Ивановича Качалова. В книгу входят статьи, речи, воспоминания и письма В. И. Качалова, статьи и воспоминания о В. И. Качалове П. А. Маркова, Т. Л. Щепкина-Куперника, Н. Д. Волкова, Н. М. Горчакова, В. Я. Виленкина, О. В. Гвоздовской, Н. К. Черкасова, Е. Д. Стасова
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Придавая новой редакции Гамлета героическое и оптимистическое звучание, Качалов не игнорировал в Гамлете его размышлений, его напряженной, анализирующей мысли, его стремления проникнуть в сущность противоречий действительности, не превращал его _т_о_л_ь_к_о_ в "бойца", понимая, что это значило бы упростить и обеднить философское содержание образа. И значение качаловского Гамлета состоит как раз в том, что он с исключительной глубиной и силой показал образ _Г_а_м_л_е_т_а-м_ы_с_л_и_т_е_л_я. Не только способность к философским обобщениям и анализу общественных антагонизмов, но суровая и беспощадная _о_ц_е_н_к_а_ их становится теперь характерной для качаловского Гамлета. Не только философом, скорбящим о несовершенстве мира, но и _с_у_д_ь_е_й, выносящим оценку и приговор общественной несправедливости, представал теперь Гамлет--Качалов. Подлинный гуманизм состоит не только в любви и жалости к человеку, в сочувствии его страданиям, но прежде всего в стремлении устранить эти страдания и причины, их породившие,-- эта мысль пронизывала качаловские образы, в том числе и новую редакцию Гамлета. "Страдание -- позор мира, и надобно его ненавидеть для того, чтобы истребить",-- эти замечательные слова Горького могут служить эпиграфом к послеоктябрьскому периоду творчества Качалова, остро ощутившего потребность в героическом, жизнеутверждающем искусстве.
5
Владимир Иванович Немирович-Данченко говорил не однажды про Качалова, что он так же велик на эстраде, как Шаляпин в опере. И это во многом справедливо. Театр становился как бы тесен для Качалова, ибо не мог вместить всех его творческих замыслов. На концертной эстраде Качалов получил возможность говорить "во весь голос", сыграть, хотя бы в отрывках, такие роли, которые он не имел возможности осуществить на сцене Художественного театра.
"Монтажи" занимают особое место в качаловском концертном репертуаре. В "монтажах" и драматических отрывках, несмотря на спорность отдельных трактовок, поражали многогранность таланта Качалова, широта и смелость художественных замыслов и какая-то _п_р_е_д_е_л_ь_н_а_я_ законченность мастерства. Он играл один, без грима, бутафории и декораций, в своем обычном костюме, и в то же время словом, мимикой, жестом делал для зрителя реальным, пластически осязаемым образ, его внутреннюю и внешнюю характерность. Концерты Качалова порою воспринимались как спектакли. Но самое основное, что особенно поражало в его концертных выступлениях, -- это настойчивое стремление артиста к эксперименту, неустанная проверка себя, бесконечные пробы и искания все новых и новых возможностей, расширяющих и обогащающих его искусство.
В "монтаже" второго акта "Гамлета" Качалов один, без партнеров, играл все пять ролей: Гамлета, Полония, Розенкранца, Гильденштерна и Первого актера. Точно так же он один исполнял пять ролей в сцене примирения в "Царе Федоре Иоанновиче", а в "монтаже" первого акта "Мудреца" -- семь ролей. Когда-то в сцене "кошмара" Ивана Карамазова (1910) Качалов нашел прием психического "раздвоения" образа. Теперь он применял прием переключений в различные образы, осуществляя это мгновенно на глазах у зрителей.
"Монтаж" сцен из "Гамлета" начинался диалогом Гамлета и Полония. Сцена строилась на репликах, быстрых ответах, своего рода словесной дуэли. "Переключения" происходили мгновенно, поражая техническим мастерством, но в то же время иногда несколько утомляли зрителя актерской трансформацией. В этом "монтаже" Полоний был дан не как партнер Гамлета, а как самостоятельный образ, _н_а_р_а_в_н_е_ с Гамлетом. В начале сцены быстрое чередование реплик, мелькание образов лишали зрителя возможности сосредоточиться на Гамлете, на его душевном состоянии, на паузах, на его немой игре, на том, что происходит с ним в то время, когда говорит Полоний. В словах Гамлета ощущалась горечь, скрытая боль, неподдельность скорби. Но в то же мгновение, когда, казалось, звучали еще чудесные гамлетовские интонации, лицо Качалова искажалось в комической гримасе Полония, и это нарушало цельность впечатления.
Качалов показывал Полония почти буффонно. Перед нами -- удивленный, комичный старый дурак, шут. Вытаращенные "рачьи" глаза, лицо, расплывающееся в самодовольную улыбку, губы, смешно выпяченные вперед. Он слегка пригибается к земле, и это делает его как бы приниженным по отношению к Гамлету. В отличие от Гордона Крэга, стремившегося придать Полонию черты символического гротеска, Качалов пользовался здесь шаржем и карикатурой. Он показывал "смешное" подчеркнуто, местами утрированно, усиливая в Полонии черты кретинизма и наивности выжившего из ума старика, надутую важность придворного и старческое слабоумие. Качалов рисовал Полония резко, насмешливо, презрительно-уничтожающе. Артист намеренно придавал своему Полонию такие острые и резкие краски. Он противопоставлял Гамлета и Полония как трагическое и буффонное, видя в этом контрасте одну из особенностей шекспировского театра.
По сравнению с Полонием, который не вполне удался Качалову, Розенкранц и Гильденштерн получились гораздо более убедительными и органичными. Артист великолепно передавал их циническое лицемерие, их навязчивую, липкую вкрадчивость, придворную лживость и пошлость. Они хотят завладеть Гамлетом, "прибрать" его к рукам, своей наглой интимностью и льстивостью вкрасться к нему в доверие. В их блестящих глазках, гаденьких лицах, пошло-двусмысленных улыбках есть что-то от церемониала двора, от придворной лживой угодливости и этикета. Оба эти царедворца -- и это правильно -- у Качалова совершенно схожи, сливаются в один образ, ибо, как тонко заметил Гёте, их много, "они -- общество".
В разговоре с Розенкранцем и Гильденштерном слова о том, что Дания -- тюрьма, и последующие реплики Гамлет -- Качалов произносил внешне спокойно, но с отвращением, с затаенным гневом. Ответ же Розенкранца ("Мы другого мнения, принц"), в контрасте с Гамлетом, звучал у Качалова сладко, елейно, ехидно. Иначе, чем прежде, проводил Качалов короткую и острую сцену притворного сумасшествия. Он оглядывался по сторонам, на Розенкранца и Гильденштерна. Хитро, согнутыми указательными пальцами он как бы подманивал их к себе, словно желая сообщить им что-то особенно важное, на ухо, по секрету. На лице его мелькала улыбка, проглядывали раздражение, лукавство, злоба. "Я безумен только при норд-весте; если же ветер с юга, я еще могу отличить сокола от цапли",-- бросает им Гамлет, понимающий все их хитросплетения, разгадывающий все их замыслы. Качалов здесь паясничает, прикидывается безумным, откровенно издевается над ними, кудахчет, делает какие-то "хлопающие" движения согнутыми руками, напоминающие взмах крыльев пытающейся взлететь птицы. Но в этом изображении безумия нет страшной боли сердца, внутреннего исступления. Напротив, гнев и презрение к предателям владеют им. В спектакле 1911 года у Гамлета--Качалова душевная боль была так сильна, что временами терялась грань между сумасшествием притворным и подлинным, когда Гамлет как бы на мгновение терял рассудок. Впоследствии этот мотив совершенно исчезал.
Чтобы закончить галлерею образов Шекспира, созданных Качаловым в послереволюционные годы, необходимо остановиться на последней его шекспировской работе, на роли Первого актера, включенной в "монтаж" сцен из "Гамлета" уже во время Великой Отечественной войны. Первый актер -- одно из неожиданных и ярких созданий Качалова -- задуман им смело и остро, на контрасте с Гамлетом и с предшествующей сценой. Гамлет--Качалов сидит задумавшись, прижав руку ко лбу, почти закрыв лицо. "Постой... постой... Суровый Пирр, как африканский лев..." -- тихо начинает он, не декламируя, совсем не думая о форме, а как бы проверяя себя, "проговаривая" текст. Он выпускает реплику Полония: "Ей-богу, принц, вы прекрасно декламируете". Он делает паузу, трет лоб рукой, как бы с трудом припоминая, и далее почти скороговоркой спешит приблизиться к самому главному -- к тайному предмету своей мысли. Он читает тихо, просто, но значительно и искренно. Перед самым концом -- пауза, словно Гамлет забыл текст. И в то же мгновение Качалов преображается в другой образ. Перед нами в величавой позе, со скрещенными на груди руками, застывший, как изваяние, стоит Первый актер. Он еще ничего не говорит. Он торжественно-монументален. Но вот он начинает свой "патетический монолог", -- поющим голосом, громко, откровенно-декламационно.