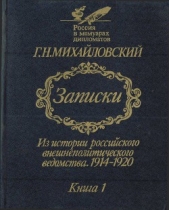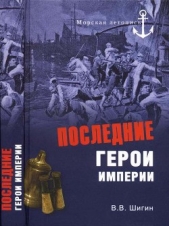Психофильм русской революции

Психофильм русской революции читать книгу онлайн
В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью. Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920). Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все успокоилось.
Незаметно ускоряя ход, мы отдалялись от берега. Все замерло. И в жуткой тишине с палубы сначала мягко и торжественно, потом мощно, широкой волной послышался стройный хор:
«Отче наш...»
Отчаявшись, погибающие люди вспомнили Отца Небесного. Величественно пели древнюю молитву. Душа человека, закореневшая в несчастье, звучала божественным напевом и в молитве слилась с Творцом Вселенной.
Горсть покинутых людей вручала жизнь неведомой и властной силе там, где мощь человека оказалась бессильной. В этой молитве смирилась душа человека. Но вместе с божественным песнопением порвалась последняя нить, связывавшая отныне бездомных скитальцев с родной землей.
Мы уходили в море без надежд и без будущего.
Было светло, как днем. Волшебный отблеск огня на зеркальной поверхности вод проявлял все детали картины.
С миноносца, мимо которого мы проходили, в рупор окликнули:
- Кто идет?
- «Ялта».
- Возьмите на буксир миноносец «Капитан Сакен» и следуйте в Константинополь.
У выхода на рейд мы поравнялись с французским броненосцем «Вальдек Руссо» и с миноносцем. Суда эти в свете своих огней и в зареве пожара сияли чистотой и порядком. Горевший огнями рейд медленно отдалялся. Мы постояли некоторое время, пока прикрепляли к борту миноносец, и в девять часов тронулись в путь, чтобы многим уже никогда не вернуться на Родину.
Когда все части уже грузились на пароходы, Врангель появлялся всюду, как и большевистские комиссары в Киеве во время их отхода. Он приезжал к погрузке войск, и его всюду приветствовали. Когда же все было кончено, он с адъютантом и с французскими офицерами отправился в город. Предварительно он сделал парад войскам, вынес к ним старые русские знамена, сказал речь и отправил их на броненосец «Корнилов». Сам же пошел в город и появился на базаре. Его обступила толпа, бабы его крестили и звали: «Не оставляйте нас».
Врангель отчалил последним.
Кто-то сказал:
- Исход великого вождя и великого народа.
Циник возразил:
- Положим, что этот народ теперь г...о, а все-таки красиво!
ГЛАВА XXI
От Севастополя до Константинополя
Я спустился в свой трюм и крепко заснул, скрючившись на мешке. Плавание совершалось при исключительно благоприятных условиях. Море было спокойно, и нас не качало. В первый день мы были в море одни. На горизонте не было видно кораблей. Но к вечеру, когда мы находились на уровне Одессы, люди скрыто переживали тревогу. Опасались большевистских миноносцев, хотя никто не знал, существуют ли они. Ночью обрисовался встречный пароход, освещенный огнями.
Недоговаривали люди, чего боялись. Оба корабля нерешительно и боязливо сближались. Это был пароход «Константин». Он сообщил: «По распоряжению английских властей иду на Севастополь за пассажирами. Можно еще пройти?» Ответили, что можно.
На третий день мы подходили к Босфору. В это утро нас обогнало несколько русских кораблей: уходили, следовательно, не мы одни, а целая эскадра. В городе ходили слухи, что генерал Слащев прислал с фронта телеграмму: «Передайте тыловой сволочи, что дела на фронте поправились, пусть разбирают свои чемоданы».
Море нас миловало, но мелочи жизни уже давали себя знать. Я стоял у борта и жевал корку хлеба, которую держал в руке. Рядом со мной стоял «товарищ» в серой шинели из пленных красноармейцев, теперь отходивший с нами. Он жадно смотрел на хлеб, хотя все мы были на одном и том же пайке. Я услышал заглушенный голос, с мольбою говоривший:
- Миленькие! Дайте мне!
Вместо сострадания я почувствовал омерзение. Я порывисто отдал ему хлеб, но резко спросил:
- Разве вы не получили? Ведь теперь мы все получаем один и тот же паек?
Он не ответил. Он знал, что офицер отдаст ему свой хлеб. А когда они на фронте мучили и убивали офицеров - те отдавали им жизнь.
Революция!
Утром можно было осмотреться. Море волновалось умеренно, вид корабля был необычен. Во всяких одеяниях и позах люди ютились между груд тюков и ящиков. Прохлада ночи, проведенной на палубе, давала себя чувствовать. Кутались и жались. Остальная масса людей была набита в трюмах. Мой трюм был самый многолюдный, вместивший около 900 человек. Это был громадный трехэтажный колодезь с вертикальной пожарной лестницей для спуска. Верхние два яруса железного колодца были густо застроены деревянными клетками с койками. В этом лабиринте, уже днем окутанном мраком, ночью были непроходимые дебри, в которых пробираться к больным было мукой. На этих трехъярусных кроватях по двое на одной постели и в проходах между койками сплошь лежали люди, как думали вначале, больные и раненые. Каждый хотел получить только кусочек места. Сзади ведь была смерть. Ночью трюм не освещался. В непроглядной тьме этого колоссального логовища кое-где мрачно мерцали огоньки самодельных ночников или пламя кем-нибудь случайно вывезенной свечи. Когда я явился в трюм, где носил звонкий титул старшего врача, все места были уже заняты, и хотя моя работа была бешеная, а остальные были только пассажирами, по-демократическому режиму места мне не полагалось. Нужно ли говорить, что никакого вознаграждения врач теперь не получал. Мы втроем с братом и доктором Л. обосновались на маленькой площадке-балкончике на своих вещах. Лежали по очереди, ибо места не хватало. Лес коек с людьми, на них медленно копошившимися, издавал зловоние. Всюду носились демократические плевки и звонко раздавалась матерная ругань. Брюхо корабля глухо рокотало человеческими голосами. Но в этом рокоте слышались лишь мрачные аккорды и дикие рулады то хохота, то злобных пререканий.
Работал я как вол, но никакой доброты и любви к ближнему у меня не было, и видел я только злобу больных. Мелодии любви были чужды этому отделению Дантова ада. Слышался только мрачный стон людских страданий. Как дикий зверь, забравшийся в берлогу, каждый, оскалив зубы, смотрел на своего соседа и парировал его удары. Спуск в верхний и средний этажи трюма был темный, крутой и неудобный. Там в очередь теснились, пропуская друг друга. Происходили скандалы, ссоры, даже драки - всего я насмотрелся в эти дни. Гуманного языка не понимали. Так озверели люди от страданий и отчаяния.
А темной ночью, когда больному или лентяю приходилось взбираться на палубу для отправления своих естественных потребностей, -тоже в очередь, выполняя почти акробатические упражнения, - вопрос решался просто: присядет тут же под лестницей и наложит кучу. А люди, ступая в эти прелести, разносили их по телам спящих. Но ко всему приспособляется человек.
Глядя на этот вертеп, меня брал ужас. Что можно было сделать? И только привычная дрессировка врача заставляла меня лазить по лестнице, ползать по перекладинам деревянных клеток и подавать помощь этим отверженцам, в которые превратился когда-то бывший героем солдат русской Императорской армии.
Велено было закончить составление списков до прибытия в Босфор. Не хотите ли, на 900 человек при одном враче и двух фельдшерах!
В первые часы путешествия люди еще сдерживались. Но затем в этом коллективе проявлялись необузданные порывы толпы. Однообразная масса, лишенная человеческого духа.
Однажды я стоял у перил верхнего трюма, когда на дне колодца возникла суета. Послышался легкий взрыв, и сверкнуло пламя. Я окликнул: «Что случилось?» - и получил в ответ, что белые товарищи, забавляясь, разрядили патрон и зажгли порох. Я властно крикнул, что я приказываю немедленно прекратить эти безобразия. На что в ответ услышал из дебрей трюма насмешливый голос: «Ишь, старый дурак, еще и приказывает!»
Нужно ли говорить, что в этой реплике я почувствовал почти оправдание моей сдержанной ненависти к этой полузвериной массе. Если утеряна дисциплина, человек превращается в скота, а такого зверя я не люблю. Я не оправдывал себя, ибо вовсе не был в это время обуян христианским смирением и любовью к человечеству, как когда-то это приписывали мне. Но тогда это была великая Императорская Россия, а теперь это были ее последние остатки в форме опустившихся и почти озверевших людей.