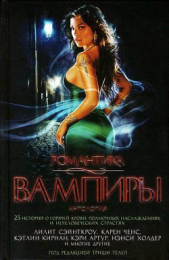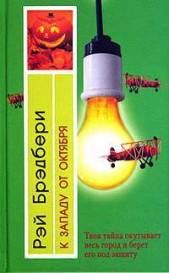Записки графа Рожера Дама (ЛП)

Записки графа Рожера Дама (ЛП) читать книгу онлайн
В 1783, в Европе возгорелась война между Турцией и Россией. Граф Рожер тайно уехал из Франции и через несколько месяцев прибыл в Елисаветград, к принцу де Линь, который был тогда комиссаром Венского двора при русской армии. Князь де Линь принял его весьма ласково и помог ему вступить в русскую службу. После весьма удачного исполнения первого поручения, данного ему князем Нассау-Зигеном, граф Дама получил от императрицы Екатерины II Георгиевский крест и золотую шпагу с надписью «За храбрость».
При осаде Очакова он был адъютантом князя Потёмкина; по окончании кампании, приехал в Санкт-Петербург, был представлен императрице и награждён чином полковника, в котором снова был в кампании 1789 года, кончившейся взятием Бендер. Приблизительно этот период и охватывают его мемуары.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
10-го октября принц Линь, соскучившийся, утомленный и справедливо возмущенный тем, что не мог добиться от князя Потемкина действий, которые бы более сообразовались с его инструкциями, отправился на генеральную квартиру фельдмаршала Румянцева, собираясь попробовать расположить его в пользу своих желаний. Его разлука со мной была для меня чувствительным лишением; его заботы обо мне, его поддержка, его непоколебимая обязательность, его постоянная любезность до сих пор сильно способствовали интересу и прелести моей жизни; он покидал меня больного, но еще более опечаленного мыслью лишиться, вследствие его отсутствия, части удовольствий, которые он и придумывал, и выполнял. Офицеры армии всех рангов окружили меня заботами, стараясь утешить. Князь Потемкин привел ко мне свою третью племянницу, которая, проездом в Неаполь, где муж её был министром, заехала провести несколько дней у дяди. Он сказал мне при этом, что не хотел лишить меня удовольствия видеть одну из красивейших женщин империи. Это была графиня Скавронская [50]. Императрица также пожелала получить сведения о моем состоянии и прислала ко мне от своего имени дежурного генерала армии, поручив ему узнать о моем здоровье лично от меня и засвидетельствовать мне участие, которое она соизволяла принимать во мне.
19-го князь пожелал снова попытать общую бомбардировку и ограничить ее городом. Он отдал приказ принцу Нассау придвинуть всю флотилию и окружить нижнюю часть, а 20-го эта бесполезная попытка состоялась. Флотилия чрезвычайно от неё пострадала; несколько судов было выбито из строя и много народу убито. Распространился слух, что эта мера более действительна и что к ней прибавится еще осада окопов сухопутными войсками. Как только я узнал об этом, я встал с постели и, превозмогая слабость и опираясь на палку, явился к князю Потемкину. «Какое недоверие! — сказал он мне. — Конечно, я не пошел бы в атаку, в которой вы могли бы принять участие, не предупредив вас. Это не более как простая бомбардировка. Я требую, чтобы вы пошли и успокоились, и поверьте, что отъезд принца Линя нисколько не изменяет моих забот о вас и моей к вам искренней привязанности». Я удалился и на некоторое время предался покою, необходимому для моего выздоровления.
Принц Нассау после бомбардировки сошел на берег. Он был в очень дурном расположении духа, жаловался, что обязан был подчиняться плохо рассчитанным распоряжениям, вроде только что данных и столь предосудительных; зная его характер, я предвидел бурю, которая должна была разразиться. У него действительно произошел с князем Потемкиным очень горячий спор, после которого он на три дня заперся в палатке, не ходил к князю, ожидая всё время извинений с его стороны и обещания принять иные меры и следовать более определенному плану. Но князь, по своему характеру, не умел ни отступать, ни склоняться перед увещаниями кого бы то ни было, в особенности когда они выражались в неспокойной форме; он ничем не поступился в пользу принца Нассау и не справлялся о том, что он думает и делает. Принц Нассау, еще более этим раздраженный, написал ему, прося пропуска. В ответ он получил пропуск без дальнейших объяснений, без задержки и отбыл в Польшу 26-го октября утром.
Я был сильно огорчен отъездом принца Нассау, но в то же время я был глубоко тронут поведением князя Потемкина по отношению ко мне в данном случае. В то же утро я получил записку от него, в которой он самым любезным и внимательным образом выражал свое сожаление по поводу моего огорчения, причиненного мне отсутствием принца Линя и принца Нассау, и уверял меня в то же время в том, что он постарается заменить их дружбу и поддержку своей дружбой, и просил со всякой просьбой доверчиво обращаться лично к нему. Эта изысканность подтверждает правильность высказанного мною взгляда на характер князя Потемкина. Князь был способен на всевозможные милости, на изысканную вежливость и на всевозможные жестокости и даже деспотизм; руководимый попеременно то самолюбием, то сердцем, он одновременно способен был уступать и тому и другому, внушать одновременно как признательность и преданность, так и ненависть.
1-го ноября в Очаков вошли 18 отдельных судов из флота, стоявшего на якоре у Березани, несмотря на ряд фрегатов и судов флотилии, расположенной при устье лимана. Сильные вихри, присущие этому времени года, затрудняли всякие движения и лишали возможности препятствовать туркам в подобного рода предприятиях. Оставалась, наконец, только надежда на то, что турецкий флот уйдет, так как всё время стоявшая ужасная погода не позволяла ему долго держаться на море. Эта новая помощь Очакову подтверждала блестящим образом мнение принца Нассау, утверждавшего несколько раз, что время года не способствовало воспрепятствованию непрерывного снабжения города съестными припасами и что, в таком случае, польза флотилии сводилась решительно к нулю.
Мне трудно будет дать понятие о том, что претерпевала армия, что каждому в отдельности приходилось переносить в то время. Земля была на два фута покрыта снегом, стояли морозы в 12–15°, да к тому еще ураганы с моря, часто опрокидывавшие палатки. Это обстоятельство, вошедшее в обыкновение, вызвало распоряжение по армии князя Потемкина вырыть в земле ямы, по имени землянки, куда солдаты уходили на отдых; палатки же были отправлены в арьергард. В тех неизмеримых степях нельзя было получить ни дров, ни других припасов, т. е. нижние чины лишены были вина, водки, даже мяса, цена которого для них была слишком высока. Генералы и полковники на вес золота оплачивали некоторые жизненные припасы. Несмотря на все меры предосторожности, подсказанные инстинктом, нельзя было лечь спать в палатке, чтобы утром не проснуться покрытым снегом. Из числа тех немногих лошадей, которых пришлось оставить, когда, вследствие недостатка в фураже, три четверти кавалерии отправлены были на квартиры, падало ежедневно несколько, а люди, у которых не было палаток-конюшен, и вовсе не могли сохранить ни одной. Несмотря на то, что у меня была конюшня, у меня осталось всего две лошади, одну из которых я держал под наметом своей палатки, чтобы согреваться об нее. Все телеги наших военных обозов пошли на дрова весьма умеренной кухни, которую приходилось вести каждому для себя, и на костры, у которых удавалось слегка погреться. Генералы, имевшие по нескольку экипажей, сохранили по одному, пожертвовав остальные на дрова.
Я был молод и не привык к морозу, как русские, а потому у меня в палатке день и ночь горела спиртовая грелка (винный спирт стоил два луидора бутылка), как единственное средство несколько обогреться. Когда я собирался спать, мои люди грели над грелкой мешок, величиной в мой рост, нагрев его, водворяли меня в него, укладывали меня и укрывали всеми моими одеялами и одеждой. Так я засыпал; а утром мой лакей снимал с моего лица снег, толщиной в две-три линии, который нападал за ночь сквозь палатку. На всех солдатах, занятых в траншее, были шубы и башмаки, подбитые мехом, поверх сапог, а унтер-офицеры находились в постоянном движении по всему протяжению армии и будили людей, цепеневших от холода; если они засыпали, кровь свертывалась от мороза, и они уже больше не просыпались. Трудно изобразить бедствие, подобное тогдашнему. По утрам и вечерам я ходил в траншею, обедал же и проводил вечера у князя; но при всем моем старании узнать его намерения, мне не удавалось угадать судьбы, которую он нам готовил.
До этого плачевного времени граф Браницкий, польский генерал, племянник князя, заведовал хозяйством дяди и снабжал его всем необходимым из своих ближайших имений; но наконец ему надоела эта повинность, и он оставил армию. Таким образом, князь остался при своих собственных средствах, и обычная роскошь была изгнана из его обихода. Племянница князя вынуждена была поместиться у мужа (командовавшего левым крылом), а я рисковал замерзнуть в снегах, отправляясь к ней для исполнения своих обязанностей, которые она благоволила принимать, что было гораздо удобнее, когда мы еще помещались близ палатки её дяди. Одним словом, скопились всевозможные неприятности. Такому тягостному положению нужно было положить конец; этого требовали наши нужды, наши физические силы, а между тем ничто не предвещало близкого конца.