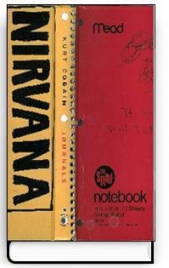Дневник 1953-1994 (журнальный вариант)

Дневник 1953-1994 (журнальный вариант) читать книгу онлайн
Дневник выдающегося русского литературного критика ХХ века, автора многих замечательных статей и книг.
***
В характере Дедкова присутствовало протестное начало; оно дало всплеск еще в студенческие годы — призывами к исправлению “неправильного” сталинского социализма (в комсомольском лоне, на факультете журналистики МГУ, где он был признанным лидером). Риск и опасность были значительны — шел 1956 год. Партбюро факультета обвинило организаторов собрания во главе с Дедковым “в мелкобуржуазной распущенности, нигилизме, анархизме, авангардизме, бланкизме, троцкизме…”. Комсомольская выходка стоила распределения в древнюю Кострому (вместо аспирантуры), на газетную работу.
В Костроме Дедков проживет и проработает тридцать лет. Костромская часть дневника — это попытки ориентации в новом жизненном пространстве; стремление стать полезным; женитьба, семья, дети; работа, постепенно преодолевающая рутинный и приобретающая живой характер; свидетельства об областном и самом что ни на есть захолустном районно-сельском житье-бытье; экзистенциальная и бытовая тяжесть провинции и вместе с тем ее постепенное приятие, оправдание, из дневниковых фрагментов могущее быть сложенным в целостный гимн русской глубинке и ее людям.
Записи 60 — 80-х годов хранят подробности методичной, масштабной литературной работы. Тот Дедков, что явился в конце 60-х на страницах столичных толстых журналов критиком, способным на формулирование новых смыслов, на закрепление достойных литературных репутаций (Константина Воробьева, Евгения Носова, Виталия Семина, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Сергея Залыгина, Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Юрия Трифонова, Вячеслава Кондратьева и других писателей), на широкие сопоставления, обобщения и выводы о “военной” или “деревенской” прозе, — вырос и сформировался вдалеке от столичной сутолоки. За костромским рабочим столом, в библиотечной тиши, в недальних журналистских разъездах и встречах с пестрым провинциальным людом.
Дневники напоминают, что Дедков — работая на рядовых либо на начальственных должностях в областной газете (оттрубил в областной “Северной правде” семнадцать лет), пребывая ли в качестве человека свободной профессии, признанного литератора — был под надзором. Не скажешь ведь негласным, вполне “гласным” — отнюдь не секретным ни для самого поднадзорного, ни для его ближнего окружения. Неутомимые костромские чекисты открыто присутствуют на редакционных совещаниях, писательских собраниях, литературных выступлениях, приглашают в местный “большой дом” и на конспиративные квартиры, держат на поводке.
Когда у Дедкова падал исповедальный тонус, он, исполняя долг хроникера, переходил с жизнеописания на бытописание и фиксировал, например, ассортимент скудных товаров, красноречивую динамику цен в магазинах Костромы; или, став заметным участником литературного процесса и чаще обычного наведываясь в Москву, воспроизводил забавные сцены писательской жизни, когда писателей ставили на довольствие, “прикрепляли” к продовольственным лавкам.
Дедков Кострому на Москву менять не хотел, хотя ему предлагали помочь с квартирой — по писательской линии. А что перебрался в 1987-м, так это больше по семейным соображениям: детей надо было в люди выводить, к родителям поближе.
Привыкший к уединенной кабинетной жизни, к неспешной провинции, человек оказывается поблизости от смертоносной политической воронки, видит хищный оскал истории. “Не с теми я и не с другими: ни с „демократами” властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, обманутой, запутавшейся партии… Где-то же есть еще путь, да не один, убереги меня Бог от пути толпы ”
…Нет, дневники Игоря Дедкова вовсе не отрицают истекшей жизни, напротив — примиряют читателя с той действительностью, которая содержала в себе живое.
Олег Мраморнов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как мы выберемся из этого грязного омута?..
Ельцин потрясает сжатым кулаком. К какой борьбе он, дурак, зовет? К борьбе за то, чтобы толпа рабочих, стоящая перед ним, перешла в услужение какому-нибудь невесть откуда взявшемуся заводчику? Чтобы ее лишили бесплатного здравоохранения и образования?
Если б он сказал, что государственные здравоохранение и образование нищи и плохи, потому что деньги шли на оружие и содержание власти, и отныне будут богаты... Ну, тогда потрясай кулаком, потому что идешь против силы.
Жест обессмысленный.
Какая чушь! Какая, какая!.. — не зря кричала птица в Марьино.
3.5.92.
Прошлогоднюю весну, — нет, я принялся вспоминать весну 90-го года, а не прошлую, — я не заметил, как бы отсутствуя в ней или не участвуя в общей весне (были тогда в Волынском).
А вспомнил лишь потому, что подумал: сменилась за эти два года целая эпоха, и смена эта уместилась в этой краткости времени и жизни.
Стоял у окна на кухне — оно без занавесок, широкое, свободное, — а там в один теплый вчерашний день воспрянувшие зазеленевшие деревья.
Я подумал о том, что то, чем занята голова, какое-то бесконечное переживание всего, не отдает меня весне, не отпускает, держит.
И вроде бы просто: вышел на улицу и пошел бесцельно, греясь в этом первом тепле и успокаиваясь зрением на этой траве и листве.
[Б. д.]
Не сходятся концы с концами: проходишь коридором до конца — там трусость. И эта личная философия заканчивается так, и та — этак. Обманываем себя. Других, разумеется, тоже.
Как коротко мы живем: то ли это наш воскресный день, то ли отпуск, но откуда мы отпущены, после чего воскрешены — после какого труда, какого ада, зачем?
10.5.92.
Вчера ездил к своим, гулял с отцом. Память только мгновенна, позади — какие-то смутные островки.
...Надо писать. Но что?.. Раньше помучаешься день-другой, и проясняется, но теперь день-другой — это крохи праздничных дней, только-только что-нибудь понять... Никогда не думал, что случится так: нет зарплаты за апрель и гонорара с четвертого номера, и когда будет, — и вот что еще, — будет ли? — неизвестно. Полторанин что-то темнит, а все остальное вообще темно. Вчера звонил Василь Быков. А Ю. Суровцев звонил, надеясь, что мы еще можем взять кого-то (т. е. его) на работу. Писать про все это скучно и как-то пошло.
16.5.92.
А жил ли я?
...Какой-то ответ, когда пришел из библиотеки Никита. Он есть, значит, я жил.
И жизнь моя из чего-то состояла?
Иногда — трудно поверить.
Лицо растолстевшего Гайдара <...>
Я с удивлением смотрю на это лицо.
В подготовке чего все-таки я косвенно соучаствовал, сидя за большим овальным столом нашей редколлегии?
6.6.92.
Время — проносится; надо бы — уехать в деревню, в Шабаново, в Демидково, куда угодно — вот в Щелыково бы, да и в Кострому хорошо — приостановить этот бег, опустошающий, бессмысленный. Спускались сегодня с Томой к Москве-реке; на склоне, где старые деревья, тенисто и почти как в лесу, кричат, верещат, свистят и что-то бормочут птицы, и поверх всего, пробивая весь шум — своих собратьев, поезда метро на мосту, проносящейся «Ракеты» — соловей, сильный, зовущий, счастливый... Тогда ты думаешь, что настоящее — это когда спускаешься по тропинке в тишине деревьев и оглушительного грохота птичьих голосов... А ведь бродим, а политика преследует нас своей практической неотвязностью, потому что она отняла у нас уверенность и сократила возможности... Когда-нибудь я напишу, что думаю о них о всех — гайдарах, бурбулисах, ельциных и прочих, кто вознесся или присоединился...
Опять к всеобщему благу — через насилие. Ничего нового. Одно и то же, только разные слова, разная идеологическая упаковка.
8.6.92.
Из вечерних «Вестей» узнали, что президент России, в Нижнем Тагиле будучи, обещал народу по возвращении в Москву немедленно отправить уральцам самолетом 20 миллионов рублей на зарплату. С неделю назад он обещал самолет с миллионами в Бурятии. Истинно — Отец нации и трудовых масс.
Записывать подобное — тоска смертная. Из абсурда — в абсурд, — вот эволюция нашего отечества за последние год-два. Могучий демократический интеллигентский хор наконец-то смолкает. Осанна демократии кончилась, огля-делись: где она? Прокричали всю Манежную площадь, клочья слов облепили гостиницу «Москва», прилипли к стенам Исторического музея и Кремля, к крыше Манежа, — и что толку? Вспоминаю, как объявляют, что у микрофона Валентин Оскоцкий, и он грозится госбезопасности и еще что-то обличает. А забыть ли, как руководил скандированием толпы Бурбулис, как раскачивал ее и организовывал, по слогам выкрикивая и повторяя: «Сво-бо-да! Сво-бо-да!» (Таким же образом единым криком кричали: «Долой! Позор! В отставку!» Менялись только имена.) Почему-то мне было неприятно и на площади, и на писательских пленумах, и по телевидению наблюдать, как ораторствовали иные знакомые люди. Они делали вид, что эта их деятельность продолжает предыдущую, а для меня эти половинки не совмещались. Но это неинтересный предмет: осуждение кого-либо. Во всех этих сборищах я слышал хор, и следовать его воле не хотелось. Вот я сейчас пишу про это, но нехотя, потому что что-то во всем этом кажется мне само собой разумеющимся: в том же моем восприятии послеавгустовского торжества демократии. До — я еще на что-то надеялся и голосовал вместе с большинством, но очень быстро я понял, как убога предлагаемая нам демократия, как примитивно поставлена задача реставрации капиталистического миропорядка. В сегодняшнем мире я чувствую себя отвратительно: деньги объявлены центром и осью нового мира. Вся система — скажем по-казенному — ценностей, которую впитали, несли в себе, постарались передать сыновьям, объявлена новыми велеречивыми идеологами — все вокруг заполнено их настойчивыми агрессивными голосами — напрасной, несостоятельной, наивной. Бог им судья.
Многие, наверное, поняли теперь, что было пережито в России в семнадцатом — восемнадцатом годах: тогда гнули страну в одну сторону, теперь — в противоположную. Если б эта страна была где-то в стороне, а мы бы все сидели и смотрели: вот построят новый дом затейники-кудесники, и мы все вселимся и будем жить, да куда там — это все из нас строят, из живого человеческого материала, из наших судеб и нашего времени, наших уходящих лет. От того, что я знал Гайдара, работал вместе с ним, то есть близко наблюдал, все предприятие, во главе которого он поставлен, кажется мне какой-то умственной, теоретической затеей: вот приняли на редколлегии его, Гайдарову, статью, и теперь вот печатаем, да не в журнале, а — по живому, впечатываем в тело, плоть России.
9.6.92.
День бесцветный: правил статьи, ждали звонка из Фонда Горбачева. Редакция без зарплаты два месяца и девять дней. Горбачев в четверг обещал Биккенину при встрече выделить сначала два, а потом еще два миллиона для издания нашего журнала. В пятницу я отвозил Черняеву нашу просьбу, на которую Горбачев обещал наложить резолюцию не позднее понедельника. Прошел вторник, а воз и ныне там. Признаться, я надеялся на поддержку со стороны Полторанина. Осенью он обещал ее Биккенину, показывая дружеское расположение и к нему, и ко мне. Теперь же он никак не отреагировал на звонок от Биккенина по «домашнему» телефону в его служебный кабинет (в который из трех? по трем вертушкам добиться его было невозможно). И странно, странно и неприятно, и чувствуешь себя обманутым. Мы не собирались угождать правительству, но и какие-либо нападки на него были исключены. Были бы объективны, — разве этого мало? Боюсь, как бы выходцы из нашего журнала — теперешнее окружение Гайдара — не настучали на нас, обнаружив нашу недостаточную лояльность. Окружение же из наших таково: Николай Головнин, Алексей Улюкаев (давно ли приносил мне почитать черновики своих статей для «МН» и свои стихи?), Сергей Колесников (давно ли, обслуживая Ивана Т. Фролова и Горбачева, через Фролова — боролся с Ельциным и «демократами»?), Евгений Шашков. Жаль всех в нашей редакции, кто поверил в возможности Биккенина и в какой-то мере мои и преданно служит журналу до конца... Что-то давно я не покупал книг, выбрал за это время со сберкнижки тысяч шесть, а книги дорогие, и все уходит на еду. Надеюсь все ж таки что-то получить и, может быть, успею купить третий том Фернана Броделя (рублей 117), воспоминания дочери Вячеслава Иванова (40 рублей) и, может быть, Токвиля (что-то за семьдесят). Нарочно записываю цены, чтобы не забыть. В последние дни — с шестого июня — объявлены свободные цены на хлеб, молоко и т. п. Давно полузабыты хлебные цены: батоны по 13, 18, 25 копеек и черный хлеб по 9 копеек. Теперь батоны по 12 рублей и черный хлеб дороже 4 рублей.

![Контрабанда из созвездия Эридана[журнальный вариант]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)