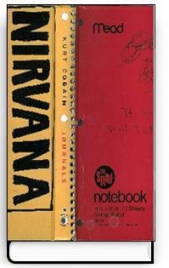Дневник 1953-1994 (журнальный вариант)

Дневник 1953-1994 (журнальный вариант) читать книгу онлайн
Дневник выдающегося русского литературного критика ХХ века, автора многих замечательных статей и книг.
***
В характере Дедкова присутствовало протестное начало; оно дало всплеск еще в студенческие годы — призывами к исправлению “неправильного” сталинского социализма (в комсомольском лоне, на факультете журналистики МГУ, где он был признанным лидером). Риск и опасность были значительны — шел 1956 год. Партбюро факультета обвинило организаторов собрания во главе с Дедковым “в мелкобуржуазной распущенности, нигилизме, анархизме, авангардизме, бланкизме, троцкизме…”. Комсомольская выходка стоила распределения в древнюю Кострому (вместо аспирантуры), на газетную работу.
В Костроме Дедков проживет и проработает тридцать лет. Костромская часть дневника — это попытки ориентации в новом жизненном пространстве; стремление стать полезным; женитьба, семья, дети; работа, постепенно преодолевающая рутинный и приобретающая живой характер; свидетельства об областном и самом что ни на есть захолустном районно-сельском житье-бытье; экзистенциальная и бытовая тяжесть провинции и вместе с тем ее постепенное приятие, оправдание, из дневниковых фрагментов могущее быть сложенным в целостный гимн русской глубинке и ее людям.
Записи 60 — 80-х годов хранят подробности методичной, масштабной литературной работы. Тот Дедков, что явился в конце 60-х на страницах столичных толстых журналов критиком, способным на формулирование новых смыслов, на закрепление достойных литературных репутаций (Константина Воробьева, Евгения Носова, Виталия Семина, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Сергея Залыгина, Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Юрия Трифонова, Вячеслава Кондратьева и других писателей), на широкие сопоставления, обобщения и выводы о “военной” или “деревенской” прозе, — вырос и сформировался вдалеке от столичной сутолоки. За костромским рабочим столом, в библиотечной тиши, в недальних журналистских разъездах и встречах с пестрым провинциальным людом.
Дневники напоминают, что Дедков — работая на рядовых либо на начальственных должностях в областной газете (оттрубил в областной “Северной правде” семнадцать лет), пребывая ли в качестве человека свободной профессии, признанного литератора — был под надзором. Не скажешь ведь негласным, вполне “гласным” — отнюдь не секретным ни для самого поднадзорного, ни для его ближнего окружения. Неутомимые костромские чекисты открыто присутствуют на редакционных совещаниях, писательских собраниях, литературных выступлениях, приглашают в местный “большой дом” и на конспиративные квартиры, держат на поводке.
Когда у Дедкова падал исповедальный тонус, он, исполняя долг хроникера, переходил с жизнеописания на бытописание и фиксировал, например, ассортимент скудных товаров, красноречивую динамику цен в магазинах Костромы; или, став заметным участником литературного процесса и чаще обычного наведываясь в Москву, воспроизводил забавные сцены писательской жизни, когда писателей ставили на довольствие, “прикрепляли” к продовольственным лавкам.
Дедков Кострому на Москву менять не хотел, хотя ему предлагали помочь с квартирой — по писательской линии. А что перебрался в 1987-м, так это больше по семейным соображениям: детей надо было в люди выводить, к родителям поближе.
Привыкший к уединенной кабинетной жизни, к неспешной провинции, человек оказывается поблизости от смертоносной политической воронки, видит хищный оскал истории. “Не с теми я и не с другими: ни с „демократами” властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, обманутой, запутавшейся партии… Где-то же есть еще путь, да не один, убереги меня Бог от пути толпы ”
…Нет, дневники Игоря Дедкова вовсе не отрицают истекшей жизни, напротив — примиряют читателя с той действительностью, которая содержала в себе живое.
Олег Мраморнов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На кладбище — сильный холодный ветер, отец Георгий (Эдельштейн) долго возжигал благовоние (так ли называю?), вращая энергично кадило, и бумажный (газетный) пепел разлетался вокруг. Состояние природы подчиняло себе состояние души. Хорошо, что Анохину удалось сговориться с шофером маленького автобуса, и он за сколько-то бутылок водки довез нас до кладбища и оттуда к дому Ларисы. Посидели за столом, помянули Виктора, немного поговорили с отцом Георгием без той отчужденности, что была при знакомстве год назад. Были Документовы, Женя Радченко, Миша Салмов и еще многие. Из приезжих только мы да некто Лялин, московский экскурсовод, тихий человек, может быть, стихший после инсульта... Провожали нас на вокзал целой группой, туда же отец Георгий принес пакет со своими статьями...
От посещения Костромы осталось горькое чувство. Впервые я почувствовал, что отъезд наш случился вовремя и жалеть не нужно. Возможно, если бы мы продолжали там жить, то многое из того, что теперь лезло на глаза, просто бы не замечалось. Но ведь за эти пять лет сколько раз я приезжал-уезжал, и — тоже не замечалось, и только теперь — это обилие торгашей, толчея, мусор, носимый ветром по площади, крошащиеся фасады зданий, того же старого вокзала, — даже дрогнуло сердце... И здания, как люди, беззащитны и столь же за-брошенны... Впервые я подумал, что уехали вовремя. Никогда я так не думал, все жалел в глубине души, и жалел наперекор рассудку и здравому смыслу. И тут — впервые, и горько стало, и бессильно — от невозможности что-либо переменить, помочь, заступиться...
В журнале — та же смута, что и вокруг, что и со всеми. Надо уцелеть, удержаться и — сохранить лицо. Отношения с Н. Б. хорошие и, надеюсь, обоюдно искренние. Наименее приятное — взаимоотношения с А., но много чести описывать то, во что я всегда предпочитал не втягиваться (игра мелкого тщеславия, служебное мелкое интриганство и т. п.). Главная надежда — получить субсидию от правительства без каких-либо обязательств с нашей стороны (посредством В. О. и в расчете на доброе отношение П. [342] к Н. Б. и, возможно, ко мне). Иначе — журнал можно закрывать.
Жаль, что тираж мал и число читателей невелико. Иначе, смею думать, и мой текст в четвертом номере («На дороге») был бы замечен, а в нем — реакция на нашу угнетающую и тоже обессиливающую повседневность.
Господи, помоги всем нам все это перенесть и выжить, — не о журнале думаю сей момент — о нашей семье, о нас всех, о жизни, подвергаемой новой опале и испытанию.
31.3.92.
Тот сон в ночь на 19 августа, не помню, записал ли где? Вроде было так: живу в атмосфере угрозы и ожидания, какой-то молвы, что ждет арест, и непременный. Но спастись можно, и для этого нужно написать прошение о поми-ловании или надо как-то объяснить, что я ни в чем не виноват, и действительно, чувства вины никакой нет, и в то же время нет в самой угрозе неожиданности, она — угроза — как бы заслуженна. Но я готов написать требуемое, осознавая это как формальность, — нужно от них отписаться, они этим удовольствуются, им нужен знак то ли сдачи, то ли послушания.
Я помню, что у меня есть чистые листы бумаги (я действительно взял в Марьино немного чистой бумаги: вдруг что-нибудь напишется), и я начинаю ее пере-бирать — и, о ужас! на каждой из страниц что-то уже написано (то есть вся моя бумага — исписана!). Не может быть, думаю я, я же брал чистые страницы, и, лихорадочно их перебирая, не нахожу ни одной неисписанной, и — просыпаюсь!
Прошение писать не на чем!
Более всего я хотел бы сейчас написать про жизнь в Костроме в 60 — 70-е годы. Может быть, про так называемое «поколение», а точнее — о восприятии этим поколением того, что происходит с нами сейчас.
Пригодилась бы та птица, что кричала в Марьино из лесу: «Какая чушь! Ка-кая, ка-кая! Какая чушь!»
Эти четыре слога-такта можно было бы наполнить каким-либо другим словесным смыслом, но я почему-то расслышал именно это. И хорошо наложилось — слова хорошо наложились на крик птицы и воспоследовавшую затем действительность.
По отношению к очень многим случившееся в октябре 17-го (начавшееся) было произволом.
То, что происходит сейчас, т. е. проводится как политика власти, является не меньшим произволом, так как распространяется на большинство.
Я даже думаю, что большевики были откровеннее (в лозунгах, например).
Нынешние — лживы и перевертыши, они боятся сказать прямо, куда ведут.
Ведут дрожащими ногами (были бы дрожащие руки — они даже человечнее — вот что думаю сейчас!).
6.4.92.
Сегодня — первый день Съезда народных депутатов России, и впечатления от его начала и каких-то клочков, донесшихся по радио, оставили на душе что-то тяжелое. С тем и домой пришел. Заезжал к своим, а там — старость, все более беспомощная...
Оглядываюсь вокруг: как беззаботно, как счастливо жили в Костроме!
Были заботы и горести, да те ли?
Вечером по ТВ т. н. «Пресс-клуб». Смотрят короткие документальные ленты, потом рассуждают. Постоянный их автор — режиссер ТВ Комиссаров — снял фильм о любви и добре — такова была «тематика» вечера. В обсуждение по фразе-другой вставили Л. Сараскина, И. Ракша, З. Богуславская и другие интеллектуалы и знатоки вопроса. Я с трудом высидел и фильм (с позволения сказать), и дебаты, ради которых, впрочем, и терпел.
Фильм начинается с вопросов журналистки, молодой женщины, худому, истощенному (истасканному!) парню в очках, редактору некоего г/с журнала, и он рассуждает о политических деятелях (в виду Белого дома) с точки зрения их привлекательности. Идет т. н. «стёб», продолженный графоманскими и патологическими стишками некоего инженера (34-х лет), который мается от своего одиночества и неуспеха у женщин. Потом следуют приставания юных помощников режиссера к прохожим насчет их счастья и с призывом посадить дерево.
Хуже фильма могли быть только разговоры по его поводу. И они были, и дамы из литературной «элиты» сказали по одобрительной и — сверх того — почти восхищенной фразе. Они явно держали экзамен на широту взглядов и глубину знания вопроса. И были далеки от всякой естественности, а от тонкости вкуса и нравственной щепетильности — еще дальше, дальше далекого.
Я иногда представляю себе будущую жизнь в России, — если победят нынешние господа, — и я в ней не хочу быть и, к счастью, не буду.
Если б у меня, как у Людмилы Лядовой, этой музыкальной старухи (героини другого фильма — «про это», менее пошлого), не было детей, а были бы вместо детей — песни (статьи, книги и т. п.), то я был бы спокойнее. Но когда думаю о Володе и Никите, просто так сдавать эту «партию в штосс» не хочется [343]. Все еще не хочется проигрывать. (Не знаю, уместно ли здесь упоминание штосса — как у Пильняка. М. б., и некстати, тогда — все равно: главное — не сдавать партии (в шахматах, картах, политике, литературе, жизни).)
Иногда думаю: зачем пишу? Записываю зачем? Надо ли? Кому? Конечно, надеюсь. Конечно... Все-таки память, и, если российский мир не взорвется в какой-нибудь новой гражданской, разрушительной, испепеляющей войне, — все-таки формирование памяти семьи, своей родословной... Раньше бы я думал и о чем-то другом: об издании, о какой-нибудь общей пользе, о важности свидетельства, — но теперь посреди этой бестолочи, этого «рывка к капитализму», — я понимаю: до этого никому нет дела. То есть — есть для таких же, как мы с Томой, но в целом — эта жизнь, отбрасываемая назад, еще долго не опомнится, ей еще долго будет не до нас. И будет ли когда — до нас? до нашей памяти? до нашей жизни? нашего удержавшегося идеализма?
Иногда чувствую, что то, что подразумеваю под идеализмом, так называю, — равняется вере, сходной с религиозной или же таковой, т. е. ею и является.

![Контрабанда из созвездия Эридана[журнальный вариант]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)