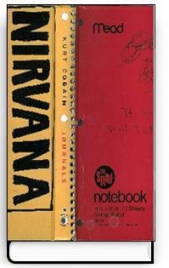Дневник 1953-1994 (журнальный вариант)

Дневник 1953-1994 (журнальный вариант) читать книгу онлайн
Дневник выдающегося русского литературного критика ХХ века, автора многих замечательных статей и книг.
***
В характере Дедкова присутствовало протестное начало; оно дало всплеск еще в студенческие годы — призывами к исправлению “неправильного” сталинского социализма (в комсомольском лоне, на факультете журналистики МГУ, где он был признанным лидером). Риск и опасность были значительны — шел 1956 год. Партбюро факультета обвинило организаторов собрания во главе с Дедковым “в мелкобуржуазной распущенности, нигилизме, анархизме, авангардизме, бланкизме, троцкизме…”. Комсомольская выходка стоила распределения в древнюю Кострому (вместо аспирантуры), на газетную работу.
В Костроме Дедков проживет и проработает тридцать лет. Костромская часть дневника — это попытки ориентации в новом жизненном пространстве; стремление стать полезным; женитьба, семья, дети; работа, постепенно преодолевающая рутинный и приобретающая живой характер; свидетельства об областном и самом что ни на есть захолустном районно-сельском житье-бытье; экзистенциальная и бытовая тяжесть провинции и вместе с тем ее постепенное приятие, оправдание, из дневниковых фрагментов могущее быть сложенным в целостный гимн русской глубинке и ее людям.
Записи 60 — 80-х годов хранят подробности методичной, масштабной литературной работы. Тот Дедков, что явился в конце 60-х на страницах столичных толстых журналов критиком, способным на формулирование новых смыслов, на закрепление достойных литературных репутаций (Константина Воробьева, Евгения Носова, Виталия Семина, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Сергея Залыгина, Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Юрия Трифонова, Вячеслава Кондратьева и других писателей), на широкие сопоставления, обобщения и выводы о “военной” или “деревенской” прозе, — вырос и сформировался вдалеке от столичной сутолоки. За костромским рабочим столом, в библиотечной тиши, в недальних журналистских разъездах и встречах с пестрым провинциальным людом.
Дневники напоминают, что Дедков — работая на рядовых либо на начальственных должностях в областной газете (оттрубил в областной “Северной правде” семнадцать лет), пребывая ли в качестве человека свободной профессии, признанного литератора — был под надзором. Не скажешь ведь негласным, вполне “гласным” — отнюдь не секретным ни для самого поднадзорного, ни для его ближнего окружения. Неутомимые костромские чекисты открыто присутствуют на редакционных совещаниях, писательских собраниях, литературных выступлениях, приглашают в местный “большой дом” и на конспиративные квартиры, держат на поводке.
Когда у Дедкова падал исповедальный тонус, он, исполняя долг хроникера, переходил с жизнеописания на бытописание и фиксировал, например, ассортимент скудных товаров, красноречивую динамику цен в магазинах Костромы; или, став заметным участником литературного процесса и чаще обычного наведываясь в Москву, воспроизводил забавные сцены писательской жизни, когда писателей ставили на довольствие, “прикрепляли” к продовольственным лавкам.
Дедков Кострому на Москву менять не хотел, хотя ему предлагали помочь с квартирой — по писательской линии. А что перебрался в 1987-м, так это больше по семейным соображениям: детей надо было в люди выводить, к родителям поближе.
Привыкший к уединенной кабинетной жизни, к неспешной провинции, человек оказывается поблизости от смертоносной политической воронки, видит хищный оскал истории. “Не с теми я и не с другими: ни с „демократами” властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, обманутой, запутавшейся партии… Где-то же есть еще путь, да не один, убереги меня Бог от пути толпы ”
…Нет, дневники Игоря Дедкова вовсе не отрицают истекшей жизни, напротив — примиряют читателя с той действительностью, которая содержала в себе живое.
Олег Мраморнов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
25.11.91.
(Бумага из Афин, на ней перепечатывал текст своего выступления по просьбе какой-то англичанки, должно быть, троцкистки (переводчицы); не весь, конечно, а две-три страницы) [339].
Иногда хочется писать на хорошей белой бумаге. Заходил в редакцию Борис Негорюхин со своей бородой Маркса, без которой он не остановит ничьего взгляда. Рассказывал про тяжбы и ссоры костромских писателей. Мишка Базанков, съезжая с квартиры, переходящей к Беляеву, отвинтил даже ручки у дверей. Об этом говорили на собрании. И о тому подобном. От водянки умер Бочарников. Лишь Вася Травкин вышел из СП РСФСР и перешел в союз новый. Я слушал и думал: а если б я остался там, как бы я жил, как бы ходил на эти сборища. Прошло всего четыре года, а перемен бездна, и странное чувство горечи от проходящей жизни, от своего в ней — хотя бы и костромской — неучастия. И одновременно — чувство освобождения или своей переключенности на что-то другое, которое опять же превратилось в несвободу.
Бывает страшно печально: жизнь тащит, тащит и тащит, и хочется никуда не ходить, сидеть на месте, вслушаться в самого себя. <...>
Я знаю, что мне много лет, но почему кажется, что жил мало? И вот с таким чувством — краткости и ясного сознания молодости — люди уходят? Бедные люди, и чем они заняты, и как транжирится, тончает жизнь. Боже, прости мне эти банальности.
26.11.91.
Обремененность души — и жизнь общая повернулась, обернулась каким-то фарсом, обманом, и дни мои заполнены чем-то все-таки ненастоящим.
А на дворе тепло, снег легкий выпадал, но растаял, к вечеру туман, то ли весна? — наверное, перед снегом...
Бывают счастливые мгновения — неожиданные, на ходу, в метро, в толпе, в троллейбусе, прижатый к задним стеклам, — когда отвлекаешься от всего, уходишь в «глубину» и чувствуешь себя человеком, и все прожитое близко, и что-то всплывает, откликаясь на запахи, блеск трамвайных рельсов, сумрак переулков и т. д.
Я не могу всерьез воспринимать митинги и новые президиумы, когда там знакомые чересчур лица революционеров — Оскоцкий, Нуйкин, — прости меня, Господи, они же мои друзья и вроде единомышленники. Но что-то тут не так...
13.12.91.
Политическое колесо буксует — летит грязь в наши лица. Они хотят, чтобы огромная часть народа вывернулась наизнанку. Жили так — теперь живите, как мы решили.
Кругом — марш!
Иногда так отвратительно — понимаешь, почему уходят люди. Натакихусловиях — не хотят жить.
14.12.91.
Тома вернулась из Костромы. Встречал в метро на пустынном раннем перроне. Настроение тяжелое от новой заведенности — службы, политической тупиковости, от бестолочи и чуши. Опять все оборачивается обманом.
Ты погляди, какая в мире чушь...
15.12.91, нет, уже пошло 16-е.
Начал писать, то ли для себя, то ли думая о журнале, диалог А и Б, сидящих на трубе, о свободе, но кажется, эти А и Б мне помешают, т. к. в конце возникнет вопрос: кто остался на трубе, или придется упомянуть И, который «работал в КГБ». Но шутка шуткой, а без писания, убиваемого каждодневной службой, жизнь уныла и теряет смысл, выходящий за пределы дома [340].
О политике, о новом абсурде писать не хочется. Кажется, все иллюзии рушатся безвозвратно. Побеждает сила, которую невозможно приветствовать.
27.12.91.
Уже «отставленный» и покинутый, М. С. вчера позвонил Н. Б. (сначала Н. Б. звонил и не застал) и, выслушав прочувствованные слова, сказал: «Что это у тебя такой похоронный тон?» И дал понять, что он еще собирается действовать, и даже попросил то ли сберечь «ребят» (в редакции), то ли удержать, давая понять, что по-прежнему рассчитывает на поддержку журнала.
А предновогоднее это время — смутнейшее. Я все — про смуту и смуту, а что поделаешь — точнее слова нет.
Вот занесло поистине в глубокую колею, и как выбраться? В такие-то времена, когда выработать «прожиточный минимум» литературным трудом (свободным) без службы, кажется, невозможно...
Конечно, нужда заставит — и службу бросишь и как-то спасешься, но ведь я не один.
Наверное, старая привычка невосстановима. Хотя, если не таращиться в телевизор по вечерам, можно попробовать. Но таращишься очень часто, потому что устаешь и хочешь остановиться. Теперь работа съедает все мое дневное время: посылаю в набор, подписываю верстки в печать и так далее. Некоторые тексты приходится сильно править [341]. Сегодня воскресенье, но вместо того, чтобы писать для каких-то других изданий, писал для своего журнала, пытаясь хоть как-то выразить то, что думаю о происходящем (в форме диалога, и в этом дополнительная трудность). Но записывать про это — скучно. Интереснее и полезнее было бы записывать цены на еду, и я как-нибудь это сделаю с точностью до копейки. <...> Примета новой торговли: обилие в магазинах на ролях директоров, продавцов молодых крепких мужчин, похоже, что они вытесняют женщин. Самообслуживание ликвидировано. Книжный магазин в доме, где живут мои родители, за последние месяцы превратился в универмаг: государственная книжная торговля занимает теперь четвертую часть помещения, остальное пространство — т. н. коммерческая торговля вещами и магнитофонными записями, а также продажа книг по договорным ценам. Это и есть прибавление, возрождение духовности. (Кстати, это слово, набившее было оскомину в телепередачах, теперь почти не услышишь, — отдекламировались!)
Смотрю какие-то дикие сны. <...> Жаль, не записал «президентский» сюжет, но тоже — какая-то глупость и чушь. Говорю Никите: сойду с ума на политической почве, хоть природа безумия будет очевидной. Никите надо отдать должное: он от политики отворачивается и редко смотрит теленовости (почти никогда), да и в газетах основную политическую текучку пропускает.
Настроение остается смутным, беспокойным. Политические свободы в стране сохраняются, но сказать, что действует демократическая государственная система, невозможно. Как и прежде, человека тащит государство, только теперь — в капитализм.
3.3.92.
Сегодня должен был выйти четвертый номер нашего журнала. С моим диалогом («На дороге»), где разговаривают про жизнь А и Б, мои частицы. Не было ни чистых листов, ни сигнального номера. И когда выйдет и выйдет ли вообще — неизвестно.
Что-то подобное происходит в этом марте со многими изданиями. Новое государство не лучше старого. По-другому, но все та же тяжесть. Было подавление политикой, теперь — подавление деньгами.
Жизнь развернулась неожиданно, лишая — пока — душевной ясности и уверенности. А что будет сверх этого «пока»?
Мысль изреченная есть ложь. Что-то мешает писать (записывать) с полной отдачей. Ощущение бесполезности всего (и записей — тоже). Напрасность.
29.3.92.
Очередной перевод стрелок на час вперед. Третий. Ясный солнечный день. Впервые за весну собираемся с Томой пойти погулять на Ленинские горы. Надо бы написать — на Воробьевы, и раньше я, пожалуй, так бы и написал, но не сейчас, в пору мелочной и мелкой реставрации. Две недели назад, на 14 марта, ездили в Кострому — годовщина смерти Виктора. Была суббота, холодно, ветрено, утром хотел было дойти до центра города пешком, но пришлось садиться на троллейбус. В Доме книги (главная цель прогулки) торжествуют торгаши со своим дорогим заграничным барахлом, а книги — всего лишь ютятся. Зато через дорогу, под сводами Красных рядов, на газетках под магазинными витринами выложены сотни ходовых «коммерческих» книг, и возле них топчутся заезжие молодцы. И этак — метров на сто. Возле базара — тоже толпа торгашей, как в Москве теперь на Тверской (на улице Горького, кажется, было бы такое невозможно), — не протолкнешься... Дошел до «Пропагандиста», а там закрыто (никогда прежде по субботам книжные в Костроме не отдыхали), и сквозь витринное стекло видно: и тут книгам долго не жить — большая часть магазинного просторного пространства от них уже очищена.

![Контрабанда из созвездия Эридана[журнальный вариант]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)