А. Блок. Его предшественники и современники
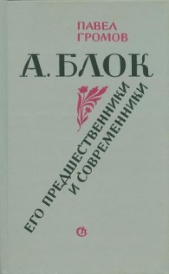
А. Блок. Его предшественники и современники читать книгу онлайн
Книга П. Громова – результат его многолетнего изучения творчества Блока в и русской поэзии ХIХ-ХХ веков. Исследуя лирику, драматургию и прозу Блока, автор стремится выделить то, что отличало его от большинства поэтических соратников и сделало великим поэтом. Глубокое проникновение в творчество Блока, широта постановки и охвата проблем, яркие характеристики ряда поэтов конца ХIХ начала ХХ века (Фета, Апухтина, Анненского, Брюсова, А. Белого, Ахматовой, О. Мандельштама, Цветаевой и др.) делают книгу интересной и полезной для всех любителей поэзии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
общественных противоречий. По Белому, именно следует подчинить искусство
новой религии, и тогда «… из искусства выйдет новая жизнь и спасение
человечества». Таким образом понимаемое искусство, по Белому, выше всех
других родов человеческой деятельности: «… в искусстве кроется религиозное
творчество самой жизни, определяющее само познание; так отвечает развитие
главнейших русл современной психологии и теории знания…»195 Выставляя
прямо противоположную Брюсову теоретическую аргументацию, Белый так же
мало понимает реальные творческие потребности Блока; Белый или всерьез
уверен, что Блок неожиданно отказался от всей своей предшествующей
эволюции, или, что более вероятно, старается сам себя в этом уверить. Блоку
приходится объяснять Белому, что он ни от чего не отказался и не собирается
отказываться: в письме от 22 октября 1910 г., связанном с этими полемиками,
Блок утверждает, что «Балаганчик», «Незнакомка» и т. д. — его прошлое, но он
не может «… не признать их своими», в целом же противопоставляет
построениям Белого трагическую тему как главное в себе: «… учел ли ты то,
что я люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви» (VIII, 317).
«Синтетические» построения символистских главарей, в сущности, более чем
когда-либо прежде чужды Блоку. На этом новом и чрезвычайно ответственном
повороте своей творческой биографии Блок ищет внутреннего обоснования
своих трагедийных концепций жизни и искусства, очень далеких от Белого.
С наибольшей резкостью и даже злобой выступил против докладов
Вяч. Иванова и Блока Д. Мережковский; при этом из контекста его огромной
газетной статьи ясно, что в особенности его вывел из себя Блок. Мережковский
усмотрел в докладах о кризисе символизма отказ от революции и даже
издевательство над нею. Себя самого Мережковский ставит в положение
защитника традиций революционной эпохи. Однако под революционной
«свободой», поруганием которой, с точки зрения Мережковского, занялись
«декаденты», сам он понимает исключительно свободу религиозных
убеждений: «… близок день, когда евангелие Марксово заменится Христовым и
русские люди снова сделаются русскими, т. е. такими, которые не хотят жить, не
отыскав религиозного смысла жизни…»196 Но ведь, в сущности, об этом же
говорит и Вяч. Иванов, и спор тут, как и многие другие аналогичные
пререкания, становится спором о словах. С Блоком же у Мережковского
серьезные счеты, и недаром сам Блок нашел выступление Мережковского
против него клеветническим. «По мнению декадентов, русская революция —
балаган, на котором Прекрасная Дама — Свобода — оказалась “картонною
невестой”, “мертвою куклой”, и человеческая кровь — клюквенным соком…
195 Белый Андрей. Венок или венец. — Аполлон, 1910, № 11, отдел
«Хроника», с. 3.
196 Мережковский Д. Балаган и трагедия. — Русское слово, 1910, 14 сент.,
с. 3.
надо быть черною сотнею, чтобы считать человеческую кровь за клюквенный
сок»197. Мережковского возмущает нежелание Блока отказаться от своего
творчества революционных лет, стремление видеть единую линию
органического развития. Приемлем период «Прекрасной Дамы» (хотя прежде
отвергался и этот период), последующее же развитие Блока, и в особенности те
произведения, где Блок хочет постигнуть драматические противоречия
современной личности, и шире — общественную противоречивость русской
жизни, отвергаются как поклеп на русского человека, русскую жизнь и русскую
революцию. Понятно, насколько кадетски-бессодержательным в таком случае
делается представление о защищаемой Мережковским «революции». Не о
революции тут хлопочет Мережковский, но совсем о других вещах.
Аргументация Мережковского, нападающего на Блока, в сущности, ничем не
отличается от доводов в «защиту» Блока, применяемых Белым. Но поскольку
Белый делал вид, что Блок отказался от самого себя, пытался
фальсифицировать его доводы и подсунуть поэту чуждые ему идеи, а
Мережковский откровенно и злобно нападал на Блока, — сами эти нападки во
многом проясняют объективный смысл всей ситуации. Особенную ярость
Мережковского вызывало стремление Блока связывать свое творчество, его
внутреннюю логику с объективными событиями в стране. Применяя
мистическую терминологию (и одновременно, конечно, обнажая философско-
идеалистические элементы своего мировоззрения), Блок утверждает, что
«… революция совершалась не только в этом, но и в иных мирах; она и была
одним из проявлений помрачнения золота и торжества лилового сумрака, то
есть тех событий, свидетелями которых мы были в наших собственных душах.
Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России. Как перед народной
душой встал ею же созданный синий призрак, так встал он и перед нами» (V,
431). Именно на эти блоковские построения чрезвычайно запальчиво нападает
Мережковский, усматривая в них чуть ли не манию величия и, во всяком
случае, кощунственное посягательство на «свободу», открывавшуюся в
«революции». Что сам Мережковский понимает под «свободой» и
«революцией» — мы только что видели. Но положения, на которые ополчается
Мережковский, действительно очень важны в блоковском докладе.
Было бы крайней нелепостью пытаться отрицать наличие элементов
идеализма и мистики, присущих не только этому докладу, но, в разной мере и в
разных конкретных соотношениях, и творчеству Блока во всем его объеме и на
всех этапах его развития. Но когда речь идет о творчестве большого
197 Мережковский Д. Балаган и трагедия. — Русское слово, 1910, 14 сент.,
с. 3. Обвинения в черносотенстве были устойчивой оценкой общественных
взглядов Блока Мережковскими «Ведь если наклеить на него ярлык (а все
ярлыки от него отставали), то все же ни с каким другим, кроме
“черносотенного”, к нему подойти нельзя было» — так оценивала З. Гиппиус
общественную позицию Блока в своих воспоминаниях о нем («Мой лунный
друг». — Цит. по сб.: Немеровская О. и Вольпе Ц. Судьба Блока. Л., 1930,
с. 203).
художника — следует, вместе с тем, видеть совокупность разнородных
элементов в этом творчестве, их конкретно-исторические связи между собой,
основную познавательную линию этого творчества и ее соотношение с
объективными общественными противоречиями, конкретно-исторической
ситуацией в стране. Пытаясь понять единство того, что происходило в
отдельных человеческих душах, и того, что совершалось в России, и
соответственно — идейно-художественное единство своего пути от
«Балаганчика» и «Незнакомки», скажем, к циклу «На поле Куликовом» и
«Итальянским стихам», Блок стремится в трудных условиях торжествующей
реакции сохранить и по-новому применять творческое единство личного и
общего, искавшееся и находимое им в границах этого же художественного пути.
Конечно, Блок грубо неправ, мистически извращает реальные проблемы и
реальное положение вещей, когда он пытается подобное единство обосновывать
тем, что революция совершалась «не только в этом, но и в иных мирах». Но он
прав, когда он отвергает «синтетические» схемы, религиозные сводки «всего
воедино», то ли под знаком «слияния» науки и мистики, как это было у Белого,
то ли синтеза «бездн верхней и нижней», как это проповедовалось
Мережковским, противопоставляя всему этому трагедийные истолкования
человеческой души в ее соотношениях с объективным драматизмом социальной
структуры, драматизмом общей исторической ситуации. В неопубликованном
ответе на возмутившую его статью Мережковского Блок, не отказываясь от тех
реальных проблем, которые он пытался решить в докладе, вместе с тем
признает, что «… это самое можно было сказать по-другому и проще» (V, 445).
























