Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург
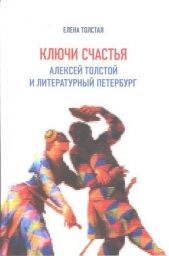
Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург читать книгу онлайн
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.
Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Важно что перед нами повторяющаяся ситуация: как и в 1923 году, Толстой в 1935 году опять только что вернулся из Парижа и опять, вопреки ожиданиям и надеждам тех в этой интеллигентской компании, кто все еще ностальгировал по прежней жизни и утраченным связям с европейской культурой, он рассказывает о Париже несусветные гадости.
Однако вспомним, что и в самом начале литературной карьеры, в 1910 году, Толстой уже рассказывал о Париже, где успел прожить десять месяцев, совершенно то же самое! Блок, пообщавшись с литературной молодежью, записал: «Тяжелый и крупный Толстой рассказывает, конечно, о том, как кто кого побил в Париже». «Конечно»! То есть это была тогдашняя толстовская «пластинка», все уже привыкли, что Толстой не о музеях и не о салонах парижских говорит, а о драках и дебошах. Так что любые новые рассказы о Париже для Толстого неизбежно подключались к этой его собственной традиции.
О парижских художниках он учился писать в рассказах и романах 1910–1911 годов, а имидж свой строил, специально культивируя то, что отличало его от остальной литературной молодежи: грубость и хулиганство. Вот откуда ерничество Толстого: это его маска, созданная им в самом начале литературной жизни, чтобы не подражать, а порезче отличаться от друга-врага Гумилева и от боготворимого, но не любящего его Блока.
Заметим, что, когда в жизни Толстого произойдут изменения и он расстанется с семьей, все будет происходить в регистре исключительного приличия. В новую свою жизнь Толстой языковую и бытовую разнузданность с собой не взял — новый его круг: стеснительный Горький, культурно неуверенные чекисты — ее бы не оценил.
Уже в августе Крандиевская, не привыкшая к роли униженной и оскорбленной, вскоре по возвращении домой Толстого уехала в Ленинград, оставив мужа в пустом доме в Детском. Впрочем, не в совсем пустом: очевидно предполагая, что семью спасет паллиатив, она сама незадолго до этого наняла ему хорошенькую молодую секретаршу из дворянской крымской семьи, Людмилу Крестинскую, которая недавно разошлась с мужем, писателем Баршевым [326]. Людмила, работавшая в библиотеке Союза писателей, недолго колебалась и приняла предложение Крандиевской, хотя ее якобы пугало легкомыслие Толстых. Сама же Наталия Васильевна переехала с детьми в квартиру на Кронверкской. Шапорина пишет:
[8.XI.1935]. Наталья Васильевна решила уехать из Детского и сделала ошибку. Она мне говорила: «У нас будет чудная квартира [327], я буду учиться, потом буду работать в ВОКСе или в НКИД [328], я буду думать только о себе. Все заботы о других — это псу под хвост. Надо быть эгоисткой. Я заведу себе белье, как у куртизанки, хочу быть очень нарядной, хочу жить только для себя».
Это была бравада, и вместе с тем в ней была надежда, что А.Н. без нее не проживет. Она уехала, поселив в Детском Людмилу Баршеву. (Шапорина Т.1: 199–200).
Идея, что Крандиевская сделала неверный шаг, продолжала преследовать долгие годы ее самое и укоренилась в семье. Толстой признался дочери Марьяне за день до смерти, что сам бы ни за что не разрушил семью (Толстая М. 1987: 201). Как видно, он хотел для себя свободы и неподконтрольности в личных делах, но вместе с этим еще и понимания и любви в своем собственном доме. Но на какие жертвы должна была пойти для этого Крандиевская? Да ведь и сам Толстой вряд ли был способен на такое сложное поведение, требовавшее сдержанности и терпения. На деле он создал ей атмосферу ненависти, которая на фоне их двадцатилетних любовных отношений стала для нее невыносимой. Для сохранения семьи ее собственного желания оказалось недостаточно.
Толстой вначале не принял всерьез отъезда Наталии Васильевны из Детского. Он ничего подобного от жены не ожидал: ведь Крандиевская с самого их возвращения из эмиграции полностью подчинила себя семейным интересам, всегда была зависимой, всегда при нем — но когда понял, что ее решение серьезно, то бешено на него отреагировал. Казалось, что повторяется травматическая ситуация 1914 года, когда его оставила Софья. Похоже, что теперь его устроило бы любое решение, только не возврат к жестоко обидевшей его семье. Жене он писал 5 декабря 1935 года в духе этой смертельной обиды:
Неужели все это вместе должно было привести к тому, что я, проведший сквозь невзгоды и жизненные бури двадцати лет суденышко моей семьи, — оценивался тобой и, значит, моими сыновьями, как нечто мелкое и презрительное? Вот к какому абсурду приводит человеческое высокомерие, — потому что только этим я могу объяснить отношение ко мне тебя и моей семьи, отношение, в котором нет уважения ко мне [329] (Греков 1991: 313).
Писатель чувствовал необходимость поставить на вид строптивой жене горячее одобрение миллионов читателей:
Художник неотделим от человека. Если я большой художник, значит — большой человек.
Искусство вообще в нашей семье никогда не пользовалось слишком большим пьететом. Напрасно. Погибают народы и цивилизации, не остается даже праха от их величия, но остается бессмертным высшее выражение человеческого духа — искусство. Наша эпоха выносит искусство на первое место по его культурным и социальным задачам. Все это я сознаю и к своим задачам отношусь с чрезвычайной серьезностью, тем более, что они подкреплены горячим отношением и требованиями ко мне миллионов моих сограждан (Греков 1991: 314).
Он почти убедил себя, задним числом, что жену необходимо было сменить по профессиональным соображениям!
Шапорина излагает продолжение истории следующим образом:
[8.ХI.1935]. Дальнейшие события развернулись с головокружительной быстротой: Людмила заменила сразу Наталью Васильевну во всех смыслах, наверху, в комнате Натальи Васильевны, началось по ночам безумное веселье, куда приглашалась и Гаяна, дочь Елизаветы Кузьминой-Караваевой-Пиленко [330]. Юлия Ивановна [331] взвыла и донесла Наталье Васильевне. Фефа оскорбился за мать, приехал в Детское и сделал Алексею Николаевичу выговор за легкомысленное поведение. Алексей Николаевич по-видимому свету не взвидел — послал Фефу к черту, добавив «Чтобы твоей жидовской морды я никогда больше не видал».
Людмила уехала из Детского и скрылась за дымовой завесой. (Шапорина 2011-1: 200).
Толстой приехал в Ленинград и при Никите устроил дикую сцену жене. После этого он уехал с Фадеевым в Чехословакию, а вернувшись в Москву, страшно пил, за глаза развелся с Крандиевской и женился на Людмиле. Наталию Васильевну он уведомил об этом письмом. Наталия Васильевна погрузилась в тяжелую депрессию и выбралась из нее далеко не сразу:
[14.XI.1935]. На днях Наталья Васильевна заехала ко мне на минуту с Фефой. «Приезжала, хотела отобрать кое-какие вещи, но рука не поднялась. Дом будет иметь разоренный вид, Алеша вернется, рассердится. Пусть сам отбирает». <…> «Моя личная жизнь кончена, женская жизнь». Я подвела Наталью Васильевну к зеркалу (Там же: 201).
Наталия Васильевна замуж больше не выходила, а посвятила себя детям: двое старших в это время обзаводились семьями и становились самостоятельными, все ее заботы теперь были о них. Тема дележа вещей, обсуждение судьбы кресел, диванов, картин станет чуть ли не основной в ее переписке с Толстым 1935 года. Сама Наталия Васильевна устроилась на работу заведующей литературной частью Ленинградского театра эстрады и впоследствии очень смешно рассказывала об этом периоде в своей жизни. Катастрофа вернула ее, давно забросившую стихи, превратившуюся в домохозяйку и секретаршу мужа, к поэзии. Вот ее стихи, написанные в ноябре 1941 года и никогда не публиковавшиеся:


























