Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург
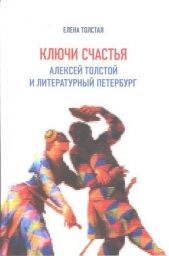
Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург читать книгу онлайн
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.
Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Любовь Васильевна Шапорина обожала Париж. Когда Толстой приехал в 1935 году из Парижа и стал рассказывать, Любовь Васильевна его выспрашивала: — Как там Париж, расскажите про Париж! Ах, Париж изумительный. Тут Алексей Николаевич вдруг разозлился на тех, кто его расспрашивал про Париж. — Подумаешь, Париж! Чего там особенного в этом Париже!
И начал рассказывать ужасные гадости про Париж, про каких-то эмигрантских типов, про сутенеров, кокоток, про каких-то подлецов из эмигрантов.
Тут страшно рассердилась Соня Толстая. И говорит ему: — Дядя Алеша, зачем ты все это рассказал про Париж? Это все неправда, тебе должно быть стыдно. Это тебя роняет. Как можно такое рассказывать!
И это удивительно — Толстой стушевался. Он пробормотал: «Ну да ладно, я, конечно, перегнул палку, сгустил краски». Он не извинился, но сказал извиняющимся тоном, и Соня милостиво в ответ кивнула — простила.
Это семейный рассказ, который Дмитрий Алексеевич, сам на той встрече не присутствовавший, слышал от старших и в таком виде запомнил.
Дмитрий Алексеевич упоминает Любовь Васильевну Шапорину в качестве «пропарижского» голоса. Любовь Васильевна и познакомилась-то с Толстым именно в Париже — в первые его парижские сезоны, скорее всего, в 1911 году, когда она была еще начинающей художницей. Во второй половине 20-х она провела в Париже четыре года. Всю оставшуюся жизнь — а жизнь эта была долгой — она тосковала по Парижу. Парижская ностальгия стала ее постоянной темой.
Толстой побывал в Париже в конце июня 1935 года в составе официальной советской делегации на Всемирный конгресс писателей в защиту культуры. Это был его первый визит в Париж после возвращения в СССР. Чувствовал он себя неловко. В психотерапевтических целях, будто ища подтверждения того, что сделал когда-то правильный выбор, он, бессознательно отбирая впечатления и передавая их, должен был упирать скорее на неприятные черты парижской жизни.
При этом любому другому оратору, посмевшему неодобрительно высказаться о Париже, он, скорее всего, возразил бы. Но за столом в Детском Селе кроме семьи и друзей-детскоселов — Фединых, Шапориных, Шишковых — были и чужие, и просто стукачи, перед которыми Толстой старался не перехвалить «капиталистов».
Вот какие характерные обертоны приписала этой встрече сама Софья Мстиславна в беседе с Н. М. Лозинской-Толстой и М. П. Лимаровой; беседа эта, имевшая место в 1995 году, записана на кассету и хранится в Самарском литературном музее:
Дядя Алеша приехал из-за границы. Много народу собралось. Бронислава [325] — я в ней фальшь почувствовала мгновенно. Муж ее — ее ему навязали, прислали… Почему у всех такое подобострастие? Почему у меня его нет?
Ну, надо мне знакомиться со второй столицей [Москвой].
— Ну расскажите, Алексей Николаевич, про Париж!
— Всемирный нужник.
Я, провинциалка, говорю:
— Ты уже потерял всякую способность понимать, что можно говорить на людях и что нельзя.
И везде на лицах шок: Ах, что за нахалка такая?
Вдруг он говорит:
— Сонька, ты права.
И все выдохнули.
Наталии Васильевны не было, она была в Коктебеле. Наталия Васильевна молчаливо излучала что-то такое, что не давало… [Фраза на кассете не закончена].
Что стоит за всей этой ситуацией? Толстой с прошлого года в конфликте с женой и семьей, на грани развода. Только что, в Париже, он пережил крах. Поэтому он мрачен и зол. В том же августе произойдет бесповоротный его разрыв с семьей.
Его окружение настороженно и враждебно наблюдает за развитием событий. Любовь Васильевна — свидетельница расхождения Толстого с женой и ближайшая конфидентка Наталии Васильевны.
В 1935 году Софье Мстиславне двадцать восемь лет. Она не полностью солидарна с Толстыми, но все же свой человек в доме, член семьи. Понятно, на чьей стороне Соня во всей этой истории — ей, как и большинству присутствующих, все меньше и меньше нравится то, что происходит в Детском Селе. И у нее есть определенный моральный перевес — Толстой признает ее правоту.
Но почему? Видно, потому, что у Сони не просто провинциальная «чопорность»: она не принимает толстовского стиля жизни и пытается ему противостоять во имя того представления о человеческом достоинстве, которое есть у нее, но отсутствует у него. Она воспитана в той семье, к которой его когда-то не подпустили, и это может быть тайной подоплекой дядиного уважения к ней.
Вот ее рассказ о толстовских проделках того же лета:
Дядя Алеша перепил (здорово заложил) и вел себя не совсем с нашей провинциальной точки зрения.
— Пошли к Шапориным.
Там у них была какая-то мраморная фигура. Он взял губную помаду, нарисовал губы и соски разрисовал.
— Ребята, я художник.
Я говорю:
— Пойдем домой. Ты уже начал куролесить.
И, Никите:
— Забирай отца.
А Шапорин был негостеприимный. У них шла вечеринка. Толстой привел без приглашения всю компашку. Толстовское обыкновение — всю компанию забрать и шпарить туда. Я была иначе воспитана. Мама ужасно боялась: «Сонюрочка, ты знаешь, мы тут в провинции обхамились. Ты же едешь в такой дом! [интонационное выделение].
Когда я вернулась, я сказала: «Мамочка, я их всех сдерживала!»
Мама — надо было знать мою маму: «— Ах! Что ты!»
Я решила уехать. Дядя Алеша:
— Ну, куда ты едешь?
— Каждый день ложиться в четыре утра и вставать в два часа дня я не привыкла (Там же).
Софья Мстиславна в точности подтверждает портрет Толстого, набросанный Шапориной: пьянство, безалаберность, хамство, похабство, — и, как кажется, показывает, что ее дядя, презирая свое подобострастное окружение, игнорирует элементарные социальные навыки. Но стоит ему напомнить о них, и он охотно опоминается.
Выслушав эту кассету, я была поражена: ведь сама Софья Мстиславна за несколько лет до того рассказала мне ту же самую историю о Париже, только действие ее происходило в 1923 году:
Алексей Николаевич приехал в 1923 году и вызвал меня в Москву. Он остановился у кого-то на квартире. У них собралось много народу, все наперебой восхищались: «Ах, Париж», Алексея Николаевича это раздражало, и он начал рассказывать про Париж всякие гадости. Тогда я говорю: «Дядя Алеша, этого не может быть, зачем ты это рассказываешь, ты себя роняешь». Это на него подействовало, он смутился и пробормотал: «Да, я лишку хватил».
Действительно, мы знаем, что в 1923 году, а именно в мае, когда Алексей Николаевич приезжал в Советскую Россию из эмигрантского Берлина с ознакомительным визитом, готовя почву для возвращения, он рассказывал о Париже весьма неожиданные вещи. Остановился он в Москве у своего тестя, но прием в его честь был устроен действительно на квартире у знакомых, а именно у друзей М. А. Булгакова Коморских; вечер этот описан в «Жизнеописании Михаила Булгакова» М. Чудаковой (Чудакова 1988: 260). На приеме присутствовал Михаил Булгаков, который впоследствии убийственно описал Толстого и его залихватские рассказы о Париже в своем «Театральном романе».
И действительно, на этом приеме была Софья Мстиславна. Толстой вызвал ее письмом из Ялты, где она жила. Она рассказывала об этом так:
Он прислал письмо: «Ялта, Софье Мстиславне Толстой». — И дошло! Мама сказала: «Делаются демарши». Я была вся взволнована. Из его возвращения сделали повод для национального ликования.
Тут слышен отзвук материнской речи, наверное, сказавшей это по-французски. По поводу своего дяди Соня, конечно, переживала сложное чувство: тут и отвращение и гнев к человеку, совершившему предательство, — но, с другой стороны, и некое очарование. Но могла ли шестнадцатилетняя Соня при первой встрече в незнакомом доме позволить себе говорить таким вызывающим образом с сорокалетним человеком? Наверное, все же могла, ибо с 14 лет главой семьи была она, она же настояла и на том, чтобы отец ее из становившегося все более опасным Крыма отправился в эмиграцию, и он спасся. И именно чтобы сообщить ей о встречах в Париже с ее отцом, своим братом Стивой, о судьбе которого семья еще не знала (они знали только, что он добрался до Константинополя), Толстой и вызвал Соню из Ялты. Кажется, что и имя «Мстислав» своему отчаявшемуся инженеру Лосю, потерявшему все и покинувшему землю, на которой «нет пощады», Толстой в 1922 году, когда писался роман «Аэлита», дал в честь своего обездоленного брата.


























